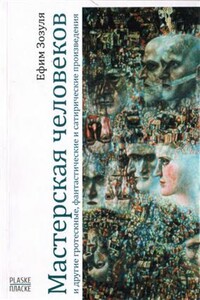Зеленая стрела удачи | страница 40
Телеграфист Калашников, навалившись слабой грудью на клеенку, говорил о погибели отечества, о всеобщей смуте. Илья Савельевич не слушал, жалел Колю и пил, хотел почувствовать боль его последнего часа. Сынок... Две слезы медленно катились по корявым щекам, стекались в одну чугунную на конце носа, Илья Савельевич, хлюпнув, оттопыривал нижнюю губу, но не успевал, слеза срывалась на клеенку. Он утирался, не выпуская вилки, а тут опять уже подкатывались две слезы, съезжались в одну.
— Зверь любит свое дитя, птица, гады ползучие. А страна Россия не любит своих детей! Так вот отдать на погибель Кольку твоего да кузяевского сына. Кто из ваших еще на флотах служит? Да нет, Колька твой придет! Я диалектику даю, в широком взгляде. Поднимись, россиянин, над своим горем, подумай о горе страны, тебя родившей, тебя научившей... Ее языком ты говоришь, ее глазами смотришь на мир, так за что ж она мордует тебя и топит на дне морском за тридевять земель?
— Ой, горе нам...
Пили, беседовали до вечера, ждали новых известий, но нового ничего не поступило.
В семь часов с грохотом и железным лязгом прошел брянский курьерский. Зазвенели стаканы, вякнула, заныла тоненько мандолина на стене.
— Балуешься?
— Балуюсь, — ответил Калашников.
Илья Савельевич шатко вышел в станционный палисадник, поикал от холода, отвязал мерина, выехал на большак.
Он ехал, плакал и чудились ему вдали разные звуки, то детский плач, то лягушачий хохот. Судьба смеялась над ним, и родная Колькина душа плакала рядом холодными слезами.
Не доезжая до Тарутина, он свернул влево, на Сухоносово, чтоб увидеть Кузяевых и, может, поутешаться вместе. У тех тоже, небось, горевали по своему матросу. И еще он подумал, и испугался своей мысли, что если Петруша кузяевский вернется, а Коленька нет, то зачем же так, господи! Господи, не покарай, нечистый мутит, пожалей люди твоя... Родная кровь.
От вечернего ветра в лицо, от легкой дороги, равномерного цоканья копыт Илья Савельевич почти отрезвел и быстро нашел кузяевский дом. Подъехал. Осадил мерина. «Стой, шатун! У...»
К дороге выходила просторная кузяевская изба с сенями, чуланом, высокими воротами и омшаником, все под одной соломенной крышей.
Позади был квадратный двор, с трех остальных сторон покрытый по краям такой же соломенной крышей. Во дворе — свиная закута, конюшня, за двором — сад, огород, конопляник и пасека. Едва угадывался в темноте сенной сарай и рядом взгорок над погребницей, куда Платон Андреевич с рождества загружал лед, и он у него держался все лето.