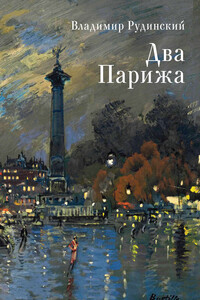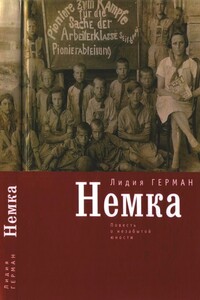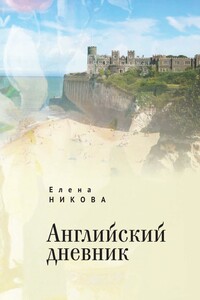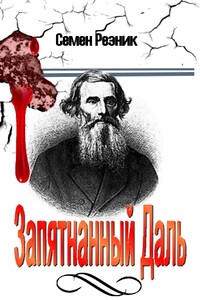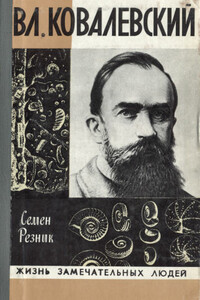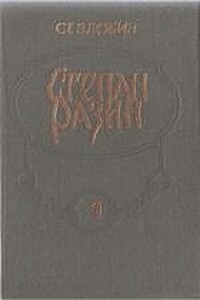Хаим-да-Марья. Кровавая карусель | страница 30
— Почему же именно евреев? — деловито спросил полицейский чин.
— А как же? — изумился Емельян. — Ить у них вера такая. Им на пасху надобна кровь христианская. Это ж всему свету ведомо.
И как бы ища поддержки, солдат обернулся к кучке зевак, успевших, несмотря на ранний час, сбежаться к мертвому телу.
— Знамо дело, евреи. Кому еще убивать, — загудели в толпе.
— Про то и святые отцы сказывали…
— В Ленчицах-то — слыхивали? — кто-то гнусаво спросил из задних рядов, и вперед выдавился, комкая в руках шапку, тщедушный мужичок с всклокоченной бороденкой, приплюснутым, словно сломанным носом, по виду мастеровой. — Как же! Да. Там на церкви одной — папистской, правда, не нашенской, — даже картина вывешена: как, значит, евреи кровушку из младенца источают. Да. Цельный бунт из-за картины той вышел — всего, почитай, два месяца тому. Евреи, вишь, сильное недовольство к той картине имели, что, значит, она народ супротив них возмущает. Сунули там, сказывают, кому-то — они ить завсегда при деньгах, евреи. Да. Ну, начальство, знамо дело, послало людей картину сымать. Только тут один смелый человек случился. Как ударит в набат! Да. Народ сбежался, а он и кричит народу: «За веру нашу христианскую! Не позволим картину для ради жидов сымать!» Хоть и папист, а постоял, вишь, за веру Христову. Да. Разбушевался народ, так и не отдал картину. Человека того заарестовали, мобуть, в Сибирь сошлют, потому ежели всякий папист смуту учинять станет… Да. А картина висит. Да…
— Вот видишь, ваше благородие, — как бы обрадовался даже, несмотря на великое горе свое, Емельян Иванов. — Ты послухай, ваше благородие, что Филипп Азадкевич говорит. Ты не гляди, что сапожник: он грамоте разумеет и про жидовские злодейства много показывает.
— Так то в Ленчицах, — вяло возразил чин, — а это у нас, в Велиже. Ты, солдат, про сына своего говори. Откуда у тебя подозрение на евреев?
— Так Агафье же, бабе моей, ворожея сказывала!
— Какая такая ворожея?
…Записал все чин чином чин, младенца непорочного Федора предать земле дозволил, а в участок к себе Марью Терентьеву приказал привести. Из-под земли достать, а доставить.
— Ну-ка, сказывай, Марья, откуда тебе ведомо, что мальца того порешили евреи? — потребовал чин от Марьи Терентьевой, как только предстала она перед ним. — И не вздумай про ворожбу мне врать, потому как ворожбу закон запрещает! И хоть ты, Марья, законам не обучена, однако не будет тебе снисхождения, потому как ты первая в городе бездомница и блудодейка и в поведении тебя никто не одобрит; пойдешь ты, Марья, за ворожбу свою в Сибирь морозную, в самую каторжную работу.