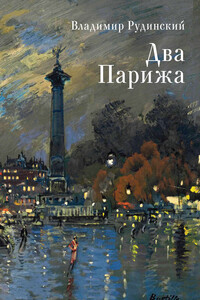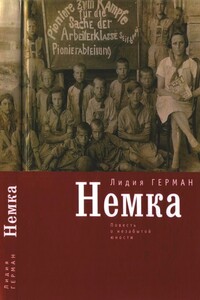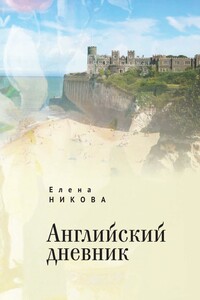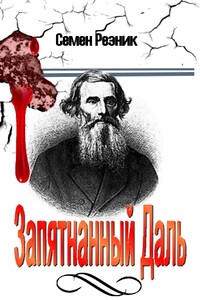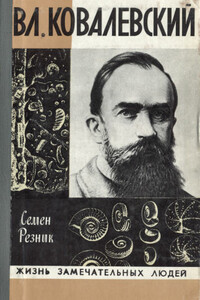Хаим-да-Марья. Кровавая карусель | страница 22
Добро бы растаскивали только, да ведь иные и заговор против тебя умышляют. Ну, не знал бы ты о том заговоре, и не знал бы. Но ведь ты знаешь, государь! Это дело у тебя крепко поставлено, тут кадры надежные. Ранее самих заговорщиков все умыслы их злодейские тебе ведомы. Ты бы пальчиком, пальчиком только шевельнул, и вот они, заговорщики, — на ноготке твоем розовом: все к твоей милости, государь.
Но ты улыбкой своей ангельской улыбаешься, глазами своими грустными смотришь, на волю Божию уповаешь…
Да кому ж, как не тебе, смуту пресечь! Ведь порешить тебя, государь, хотят! И порешат, ежели не упредишь их, как сам ты папашку своего порешил, потому что не упредил он тебя.
…Что это с тобой, государь? Почему светлый лик твой страшная исказила гримаса? Ах, да!.. Папашка твой, крест царствования твоего!.. Не хотел ты этого, государь. Видит Бог: ты — не хотел. Так сам Бог рассудил — стало быть, нет на тебе вины. А поди ж ты — стоит папашка перед глазами твоими, больше двадцати лет стоит образ его пред тобой, и не грозным государем, в мундир затянутым, перед кем ты сам не меньше министров и генералов трепетал, а жалким маленьким клубочком дрожащим стоит он перед ангельским взором твоим. Глазки-то его затравленно бегают. Ручки-то его крохотные, с пальчиками врастопырочку, подрагивают. Шейка-то его тонкая, как у гуся общипанного, торчит из ночной рубашоночки…
Ведь он уж и свечи в опочивальне своей загасил, одеялом укутался да сладкие сны начал глядеть; а тут — топот сапожищ, пьяная ругань, брань площадная. Он только и успел, папашка твой, в рубашоночке ночной с постельки соскользнуть, да головкой обезьяньей в камин воткнуться. Забился в угол — одни пяточки голенькие торчат. Ну, за пяточки его из камина и выволокли.
Он упирается, бедный, ручонками-то врастопырку закрыться хочет. Ну, чисто дитя малое, вроде младенчика того, в граде Beлиже убиенного.
— За что вы меня, — спрашивает болезный, — что я вам сделал плохого?
Не понимал, вишь, что плохого делает!
А ему — кулачищами — по зубам! Кулачищами батюшке твоему махонькому. Да золотой табакеркой, чтоб ярче физию разукрасить. А потом только шарфик красный на тонкую шейку гусиную повязали да за концы потянули. И всё. Глазки тут его закатились да язык вывалился…
Государь! Ты ж сам не был при том! Ты ж в дальних покоях дожидался! Отчего же не грозным государем, в мундир затянутым, а жалким трясущимся беспомощным комочком в ночной рубашоночке стоит папашка перед ангельским взором твоим?