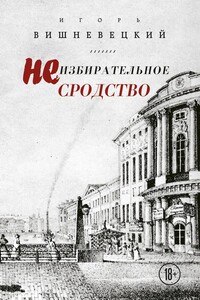Сергей Прокофьев | страница 32
В стенах Шахматного собрания Прокофьев познакомился с режиссёром Сергеем Радловым, будущим соавтором по либретто «Ромео и Джульетты». Заглядывал наш герой в Шахматное собрание с консерваторским товарищем Максимилианом Шмидтгофом, но никогда — с одноклассниками Борисом Асафьевым и Николаем Мясковским, к шахматам безразличным, умозрительной их фантастике чуждым.
Постепенно композитор выучился проверять творческое воображение и напористость друзей и даже брать своеобразный эмоциональный реванш над ними совместной игрой в шахматы. Забавный эпизод: в середине 1920-х Прокофьев, рассердившись на жёсткую критику Владимиром Дукельским его Пятой фортепианной сонаты, которую Дукельский считал «очень уж «церебральной», в качестве последнего аргумента в споре заявил, что Дукельский зато — «бездарный шахматист». Приохочивал — уже в 1930-е — Прокофьев к шахматной игре и двух своих сыновей. Младший, Олег, вспоминал: «Нужно сказать, что шахматы, несомненно, принадлежали к его любимым внемузыкальным занятиям. Для него шахматы, по-видимому, были больше, чем род «интеллектуального спорта». Мне кажется, что они служили ему чем-то вроде дополнения к сочинению музыки, возможно, своеобразной мозговой тренировкой комбинационной изобретательности, не лишённой спонтанного творческого начала. Был, конечно, и чисто спортивный момент движения, риска, уловки и победы. Спортивный дух был ему вообще свойственен, об этом писали многие, подчёркивая эту сторону, может быть, с излишней серьёзностью, и в самой его музыке. Во всяком случае, мерой спортивности шахматной игры определяется, по-моему, и его спортивность…»
Умственное, логическое, конструктивное, соревновательно-спортивное, мужское, «шахматное» начало господствовало у композитора в ранние, консерваторские годы, а вот со второй половины 1910-х годов Прокофьева начнёт всё больше занимать начало эмоциональное, алогическое, интуитивное, постоянно нарушающее им же созданные правила — то, что принято соотносить со стихией женственного и, как мы уже отмечали, «магического». С середины же 1930-х в его творчестве возникнет счастливое слияние обоих начал. В этой слиянности, в алхимическом браке двух элементов и заключается секрет чисто музыкального композиторства — искусства конструктивного и импровизационного одновременно.
В сущности, лишь поняв, как Прокофьев играл в шахматы, мы поймём, какой конструкции он искал для собственной музыки.
По свидетельствам многочисленных соперников и по сохранившимся записям партий ясно, что теоретическим знаниям, ведущим к осторожности за доской (а знания у Прокофьева были), он предпочитал рисковый натиск и, порой, неожиданный отход от привычного развития партии. Собственно занятия шахматной теорией Прокофьев прекратил около 1917–1918 годов, когда прервались его связи с петроградским шахматным миром (большая часть арендуемой Шахматным собранием площади была передана под военный лазарет ещё в 1915 году). По свидетельству всех теоретически подкованных соперников композитора, его игра, соответствовавшая первому разряду, носила определённо романтический характер. В 1910—1920-е годы такой стиль обеспечивал частые победы, однако со второй половины 1930-х, с увеличением тщательно просчитанных вариантов игры хорошие знания стали брать в среде шахматистов верх над воображением. Прокофьев, игравший в целом очень хорошо, стал чаще проигрывать, пока в 1944 году в матче с молодым тогда композитором Николаем Пейко не закончил поединка с унизительным для себя счётом 1:4. Мясковский после разговора с Прокофьевым передал Пейко, что Прокофьев жаловался ему на младшего соперника, всё время ловившего его «на книжные варианты». Однако к середине 1940-х в шахматах внеличное знание стало вытеснять индивидуальное вдохновение, и прежний тип шахматиста становился всё менее конкурентоспособным.