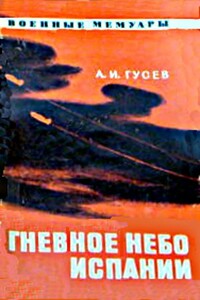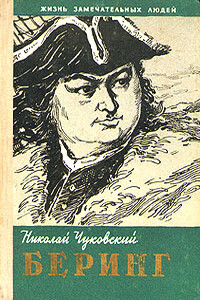Скорина | страница 38
Таков уж, по всему видно, божий закон для этого мира, думает дальше Скорина. Куда бы, оставив Полодк, он потом ни шел, куда бы ни ехал, в каких бы городах и весях ни задерживался, он все их не только познавал, но и сравнивал с прежде увиденными, прежде постигнутыми. И когда учился в Кракове, и когда очутился здесь, в Праге, и даже когда попал в совсем уж далекие земли — в Италийскую, в Падуанскую, — лежащие аж за Альпами, — он везде познавал и сравнивал и почти всегда останавливался на мысли, что люди повсюду видят мир весьма похоже, мудро и еще, он сказал бы, в той строгой чуткости сердца, которая с трудом их каждого дня связана, с чувством гармонии, прекрасного, неповторимого связана. Потому так часто и радовался Скорина душою и, хотя оставил родимый берег давно, горечи неутолимой от разлуки с ним не испытывал. Все города на свете — его города! Хотя... тут он хватил через край: разве города новооткрытой Индии — его города, как, впрочем, и старой Индии, куда он вряд ли когда-нибудь доедет, дойдет? Однако ж города, в которых он побывал, — города Европы ближней и дальней — разве не все они равно дороги ему, как Полоцк, Вильна, Краков, Копенгаген, Падуя, Прага? В каждом из них он оставался самим собой и — главное — остается понятым: его понимают другие, и он понимает других. Хотя опять же — «хотя». Разве те, кто всегда его понимал и кого всегда понимал он, для него «другие»? Не другие они, а такие же, как сам он, — доктора, магистры, бакалавры, ученые мужи, воспитанники университетов...
Свою общеевропейскость Скорина чувствует. Четырнадцать лет прошло с тех пор, как оставил он родной Полоцк, а не больно ему при мысли об этом здесь, в Праге, как не было больно и прежде, в Падуе, а еще раньше — в Кракове.
Ведь и впрямь никакими тисками не сжимал его душу Краков, хотя сердце некогда и трепетало — в те первые минуты, когда он с двумя грошами в котомке подходил к одной из краковских надвратных башен, которых было здесь намного больше, чем их можно было увидеть на синем небосклоне в его Полоцке. Потом уже Скорина знал, где Клепаж, где Казимеж, .где сам Вавель, а тогда все перед ним сливалось в единой трехъярусной грандиозной застройке: нижний ярус — дома местечковые; второй ярус — башни костелов, арсенала, ратуши; третий, самый высокий, возносился баштами, островерхими крышами, крестами святыней. Однако не успел Франтишек оказаться в бурсе — на улице, которая прежде называлась Жидовской, а теперь — Святой Анны, не успел услышать первые разговоры о люде краковском, о всех трех базарах города и его окрестностях, как стало для него понятным, что уже само предместье, лежащее вокруг Большого Краковского вала, близко ему, хлопцу из Полоцка, прежде всего по-славянски близко. Ведь это предместье имело и свое Заблотье, Дембники, Янову Волю и даже... Смоленск. Были здесь и Кожевники, Нова Весь, Чарна Весь. Не кожевником был его отец — торговцем шкурами, но кожевники и в Полоцке, и здесь одним и тем же ремеслом занимались. Сосен, правда, над краковской Вислой было меньше, чем дубов, но разве Сосницы не сестры Дубникам? А Заблотье — в открытую звонко напоминало о широко распространенных и на Полотчине, и на Витебщине Заозерьях, Залесьях, Запольях, тех же Заболотьях. Саму Вислу, помнил Скорина, в Полоцкой летописи летописцы называли Белой Водой. Жители Белой Руси только близкую, родственную своей душе речку-воду могли так назвать. И жил в Кракове Франциск Скорина, жил над Вислой — Белой Водой и, может быть, думал еще и о том, что само слово «белое» для его предков обозначало не только цвет, но и что-то, по-видимому, большее: волю, свободу, не исключено — и красоту, прежде всего красоту... Ведь же и Злата Прага, где он сейчас живет, работает, золотая не только златоверхими своими, в небо вознесенными крестами, куполами, резьбою да балюстрадами, жмущимися к стенам святыней и богатых особняков, отстроенных епископами, знатью, лавочниками, перекупщиками, — золотая Прага и потому, что она еще прекрасноверхая. Разве не так?..