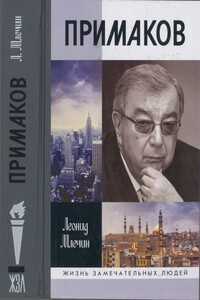Скорина | страница 20
6 августа 1517 года еще не кончилось, потому что не пробил двенадцатый час на башне Пражской ратуши на Старом Мясте. Но Скорина уже крепко спал, поджав ноги на скамье-топчане: под головой — стопа пробных и неудавшихся оттисков, на оттисках — рука, на-руке — щека. Спал Франтишек спокойно, безмятежно, хотя до этого тревога на душе была, что-то грезилось, призрачно вставало перед глазами — словно то, что не договорил день, пытался договорить вечер, собиралась полностью договорить ночь. Но видение, хоть и рожденное неосознанной тревогой, было поначалу светлым, и, как будто с желанным приятелем, вела с ним разговор его душа. Приятель тот низко склонялся над ним, заглядывая ему в синие, уже прикрытые утомленными за день веками глаза, и, удивляясь его спокойствию, спрашивал:
— Почему ты спокоен, Франтишек, почему на душе у тебя такая ласковая тишь, словно тебе не нужно будет не только напечатать задуманное, но и отвезти напечатанное далеко-далеко — через горы и долы, пущи и реки? А на дорогах — разбойники, в пущах — грабители, на таможнях — обдиралы, на мостах и под мостами — пучеглазые бродяги! А ты спокойно спишь себе на скамье...
— Беспокоится только осина, на которой иуда повесился, только гнущийся под ветром камыш, только былье на краю поля, обочь дороги. И спокоен граб, ибо тверд, дуб спокоен, ибо могуч, человек спокоен, ибо мудр. Мудрость приносит успокоение.
Так вроде бы отвечает Франциск на слова своего светлого приятеля — правда, он это говорит или кто другой, в полусне Франциску не очень ясно. Но он доволен, что ровно и без всякого усилия речь у него течет, а светлый приятель уже не только приятель его, но и приятельница: