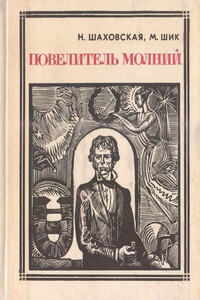Станиславский | страница 3
А театр… Его, разумеется, тоже захлестнули волны новых идей, порожденных новой информацией и еще больше — новой интерпретацией. Тем более что он, как искусство синтетическое, испытывал сильнейший натиск со всех сторон. Обмен появившимися идеями в мире, все более объединяющемся с помощью технического прогресса, осуществлялся практически мгновенно. В этой ситуации конца XIX столетия Россия какое-то время занимала позицию стороннюю. Если ее музыка и литература постепенно выходили в большой европейский мир из национальной замкнутости, становились в нем влияющим фактором, то изобразительные искусства, а тем более театр, оставались сугубо «домашними». И хотя актерское мастерство в России было на высоте, спектакли, как некое художественное целое, по-прежнему архаично составлялись из отдельных элементов, не вступающих друг с другом в живую художественную связь.
Режиссура делала свои первые, не особенно властные шаги. Правда, Евтихий Карпов в Александринке (как показали интереснейшие наблюдения Александра Чепурова в его книге «Чехов и Александринский театр») пробовал уже использовать некоторые новейшие принципы европейской режиссерской работы, которые очень скоро и у нас станут привычным инструментом этой профессии. Гастроли немецкого Мейнингенского театра, поразившие и расколовшие российское культурное общество, обнажили истинные масштабы и характер европейских перемен, учитывать которые должен был любой национальный театр, чтобы не остаться на обочине все более глобальных художественных процессов. Иностранцы постоянно гастролировали в России и прежде. Но впервые критики, привычно восторгавшиеся мастерством заезжих знаменитостей, обсуждавшие актерские трактовки отдельных сцен, столкнулись с чем-то совершенно для себя новым: с актерским ансамблем, единством стиля, продуманным до мелочей построением сценической среды.
В эти годы в Европе уже работали не только мейнингенцы, поразившие российских зрителей музейной культурой «обстановки». В разных странах возникало множество сценических организмов, сосредоточенных на реформировании спектакля как целого. Тот факт, что театральная Россия не сразу включилась в этот процесс, вполне объясним. Европейские постановщики и актеры раньше нас столкнулись с новейшей драматургией, которая требовала иных подходов к своему воплощению. В ней часто главенствовали уже не сюжет и ввергнутые в его хитросплетения персонажи, а некая общая атмосфера жизни, включающая в себя не только событийный мир и психологическое его наполнение, но и что-то выходящее за пределы «просто жизни», бытия не только отдельного человека, но и общества. В этих пьесах словно распахивалось пространство реальности; проникая как во внутренний мир человека, так и в мир надчеловеческий, оно странным образом связывало их в многоуровневую картину бытия.