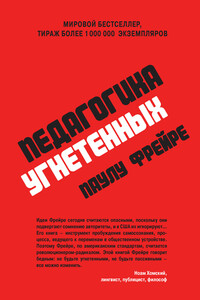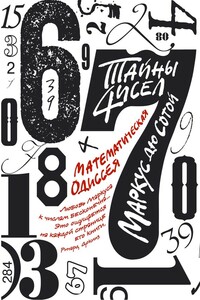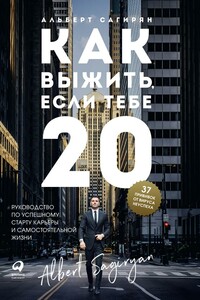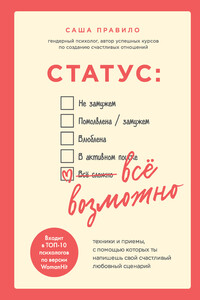Как мы ориентируемся. Пространство и время без карт и GPS | страница 32
Когда я читала рассказ Нельсона об этом путешествии, меня поразило его сходство с рассказом другого антрополога, работавшего 30 лет спустя на другой стороне Арктики. Аргентинец Клаудио Апорта, ученый, влюбленный в карты, географию и север, писал докторскую диссертацию об иннуитах в общине Иглулик, на острове в заливе Фокс-Бейсин. Местность в районе Иглулика подходит под определение полярной пустыни; в ней выпадает не больше осадков, чем в Сахаре, только здесь очень холодно и большую часть года земля покрыта снегом и льдом. Кроме того, она абсолютно плоская – высота единственного холма в Иглулике не превышает шестидесяти метров.
Во время своего пребывания там Апорта обратил внимание, что приезжие с юга обычно описывают Арктику как невыразительную и лишенную жизни – нечто вроде пустого пространства. «В определенной степени она действительно однообразна, – говорил мне Апорта, – но интересно, как живущие здесь люди изобрели способы находить путь в этих условиях. Людям нужны природные ориентиры, чтобы найти конкретные места в своем окружении». Весной 2000 и 2001 гг. Апорта совершил десятки путешествий вместе с охотниками, пытаясь понять, как они ориентируются. Один раз он сопровождал местного жителя, который расставил капканы на лис на площади 31 квадратный километр и хотел забрать их. На взгляд Апорты, земля здесь выглядела абсолютно пустой и однообразной. Но охотник каким-то образом нашел все капканы, спрятанные под снегом. Это уже невероятно впечатляло. А потом охотник мельком упомянул, что поставил капканы вместе со своим дядей двадцать пять лет назад и с тех пор сюда не возвращался. Апорта был потрясен. «Как можно определить, запомнить и передать точное расположение этих мест, не используя карты?» – удивлялся он[48].
Апорта пришел к выводу, что путь иннуитов не случаен: они придерживаются известных маршрутов. В большинстве мест мира маршруты определяются дорогами и рукотворными ориентирами, встроенными в ландшафт, а затем эти пути и места наносятся на карту в виде символов. Географ Реджинальд Голледж утверждал, что в одних местах ориентироваться легче, чем в других, потому что они обладают связностью пространства или ориентирами, которые облегчают навигацию. Природа Арктики лишена постоянства – лед тает, снег сдувается переменчивым ветром, реки зимой промерзают и затвердевают. Ориентиров немного, и они расположены далеко друг от друга, а порой трудно и различить их, и добраться до них, так что «чтение» местности зависит от социокультурных аспектов, от символического значения и от смысла, присвоенного ландшафту людьми, которые по нему странствуют. Апорта выяснил, что в Арктике некоторые маршруты считались предпочтительными на протяжении многих поколений, и знания об этих дорогах, не обозначенных нигде, передавались от человека к человеку, от семьи к семье, от общины к общине – не в виде карт, а как устные рассказы, и люди их запоминали.