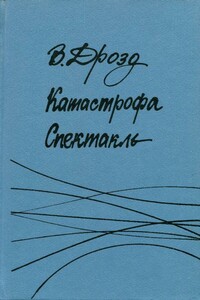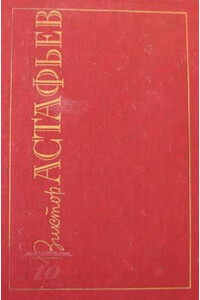Земля под копытами | страница 11
— Душегубы проклятущие! Чтоб вы так лихоманки напились, как кровь нашу пьете! Чтоб вам сдыхать на дню по сто раз, чтоб ваши кости выбросило с того света! Чтоб и детей ваших горе разорвало, как вы меня сейчас на куски рвете! Пустите меня к моим сыночкам!
— Не трать, молодица, сил, опускайся на дно, — прогудело из глубины погреба. Она узнала голос деда Лавруни.
— А вы чего здесь, дед? — обрадовалась Галя, что не одна.
— Сказано-от в святом писании, дочка: неправедный да творит неправду, но гряду скоро, и расплата моя со мной…
— Добре, дед, что вы хоть булок наелись…
У Лавруни слова галушкой так в горле и встали; молча завозился в углу, чиркнул кресалом, осыпав тьму пригоршней искр. Табачный дым, пересиливший дух прелой соломы, был приятен Гале, он напоминал о Даниле. Язык у нее без костей: вишь, и про булки не удержалась. В августе сорок первого, когда родила Поночивна своего Телесика, пришел Лавруня по-соседски проведать ее: «Ничего, Галька, вскорости жди своего Данилу домой. Немцы уже в Листвин вступили, магазины там открылись, полки булками завалены…»
— Не шпыняй уж меня хоть ты, дочка…
И Поночивна прикусила язычок. Точно такой голос был у Лавруни, когда его Соловей упал и больше уж не встал. На мостике через Пшеничку дело было. До войны еще, в котором году, не помнит. Лавруня ходил в последних единоличниках в Микуличах. Как ни уговаривали, как ни давили на него разные уполномоченные, которым Лавруня портил картину стопроцентного энтузиазма, не хотел он идти в колхоз, единолично копался в овраге на своей делянке-латке. Коня ему оставили, Соловьем прозывался, тощеребрый, ну точно плетень у худой хаты. Прижмут Лавруню налогами, он детей на воз посадит — и в столицу: «Еду к Постышеву». Возвращается под вечер, насосется джусу и на все село горланит:
Поспешала Галя в свое звено, а Лавруня с возом навстречу. Только втащился его Соловей на мостик, вдруг — бах, и ноги протянул. Лавруня соскочил с воза, бежит к коню и глазам своим не верит: «Ой, конь ты мой конь, товарищ ты мой верный! Я ль тебя не холил, я ли не пестовал?! Сам не доем, не допью, а тебе последний кусок отдам. Не сироти меня, конь мой, запой, Соловушка…»
— Вот, дед, залили и вам сала за шкуру немцы, — вздохнула Поночивна, устраиваясь на ступеньках у самых дверей: только откроют, она сразу и кинется к своим деткам, ни один полицай не остановит. Хоть бы баба Марийка Ивася отходила! Андрея и Сашка накормит, не даст пропасть.