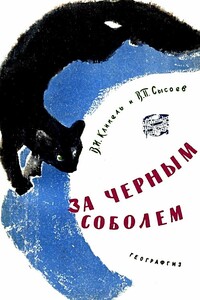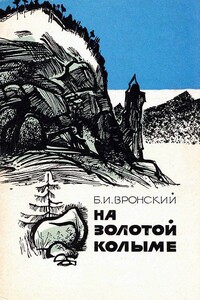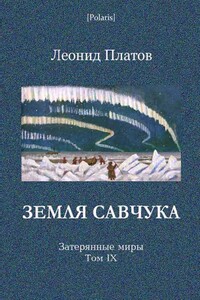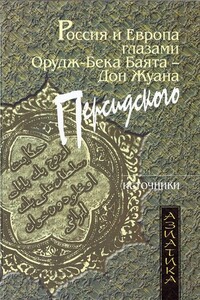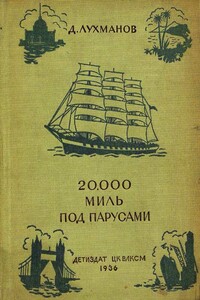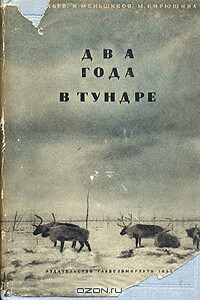Пятьсот часов тишины | страница 17
Что можно к сказанному добавить? Только детали, только частности. Их немало, и они в своем роде немаловажны, однако это лишь частности.
На чусовских берегах настоящее буйство зелени. Елово-пихтовая тайга с изрядной примесью лиственницы, сосны, кедра, березы, осины, липы. А в подлеске рябина, черемуха, ольха, бузина.
И все это шпалерами стоит у самой воды, одно теснит другое, ярусами громоздится на крутых увалах, возносится, ниспадает, покорствуя капризам рельефа. Деревья подчас лепятся в расселинах скал на таком ничтожном земельном минимуме и на таких головокружительных крутизнах, что смотреть и жалко, и жутко. Их узловатые, алчущие корни в поисках почвы и влаги свисают как щупальца неких чудищ.
Пихты прелестны и в массе, и порознь. Зелень их густая и сочная, они пушисто-игольчаты, стройны, островерхи. («Готика-то какая!» — умилялся Лирик.)
Но самые высокие деревья в этих местах — лиственницы. Историки свидетельствуют, что у манси, например, лиственница была в числе вещей, которым они поклонялись. И это можно понять… К одной из них — возле Слободы — мы тоже ходили «на поклон». Надпись, сделанная на железном листе, прикрепленном к дереву, исполину, сообщала, что высота его тридцать восемь, а окружность у основания семь с половиной метров. Чтоб обхватить его руками, надо пять человек. Лиственнице около четырехсот лет, то есть она пришла к нам из времен Ивана Грозного и Ермака. Кто усомнится, пусть сосчитает годовые кольца, которые видны, потому что ствол надпилен.
Сосна здесь кряжистая, с искривленными, змеящимися медно-литыми сучьями. Как на японских и китайских рисунках. Есть такая и в Прикамье, это мы знаем по Шишкину.
Поистине умилительна та настойчивость, с которой стремятся к воде березки. В пасмурной толпе елово-пихтового народа ажурно-легкие вереницы березовой поросли словно текут со скал, с обрывов, из мрачных недр лесистых яругов, чтоб, распушив свои ситцевые юбчонки, шеренгами обосноваться на переднем плане — у самой воды.
В путевых заметках Мамина-Сибиряка читаем: «С именем «белого дерева», то есть березы, у сибирских инородцев связано предание, что с этим белым деревом вместе идет и власть «белого царя». Действительно, если проследить исторически географическое распространение березовых лесов, можно вполне убедиться в верности этого предания: куда шел русский человек, — туда, как живая, шла за ним береза».
Для нас же эти березки все равно что милые сердцу землячки, с которыми вырос. Их место в общеуральском колорите определил писатель Елпатьевский всего лишь двумя словами: «белорадостные березки».