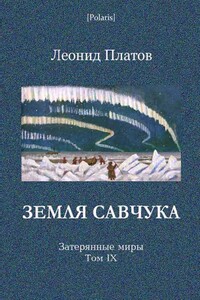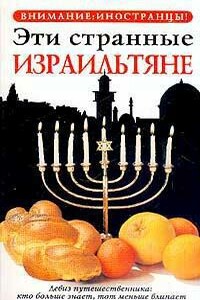Пятьсот часов тишины | страница 15
И перед этой распахнутой неохватностью душа как-то вселенски ширится; ты все больше теряешь себя, но зато все ближе к чему-то другому, неизведанному. И не столько уже принадлежишь себе, сколько реке, и даже не реке, а этой бескрайности лугов и полей, этим далям горизонта, мреющего в розовато-сиреневой дымке. И ты сам — словно бы сам простор, словно бы вот эта все при-туманившая, стелющаяся дымка.
Чусовая же — совсем в другом роде.
Она запомнилась как некий извилистый, скалисто-зеленый коридор. Ни плоских берегов (хоть круто, обрывисто, хоть покато, а везде они стремятся вверх, даже когда несут на себе всхолмленные поля), ни равнинных заречных далей, ни пляжей песчаных. Если где и попадется подобие пляжа, так его устилает дресва, а не песок. Одно слово — каменная теснина!
«Здесь так узко, так узко, — писал Пушкин о Дарьяльском ущелье, — что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту».
Вот и на Чусовой испытываешь почти то же самое.
Чусовая не широка, не глубока, но лоно ее уютно и живописно. У Новоуткинска, откуда, собственно, плыли мы, она довольно еще неказиста. А через каких-нибудь десять — пятнадцать километров ее не узнать: она начинает вгрызаться в горы, и облик ее резко меняется. То замысловато петляя в своем крутобережье, то ненадолго и вроде бы простодушно спрямляясь, она полна тайны и недомолвок. Из года в год она все глубже врезает свое русло в камень, словно прячется от любопытных глаз. Она бы, верно, и камни спрятала, поглотила б их, перемолола, да никак с ними не совладает!
И тебя она тоже ни с кем делить не намерена: ни с тайгой, ни с небом.
Если не веришь, подымись на самую крутую, головокружительно высокую скалу, когда дух захватывает как при парении (сколько воздуха-то, тайги-то сколько!), когда насквозь просвеченные солнцем ближние таежные массивы уходят, все темнея, в хмурое отдаление, где сизой грядой теснятся круглые уральские горки, когда над тайгой не шелохнется сине-зеленая тишина, а река мерцает глубоко внизу (плывущие стволы кажутся спичками), даже тогда тебе не уйти из-под власти этой красавицы.
Шутники говорят, что нрав у нее совершенно женский: она-де переменчива, многолика, коварна. Отвечу на это: женщины, как и мужчины, бывают, конечно, всякие, но Чусовая воистину такова! Ее, мне кажется, труд-но живописать, даже досконально изучив, а еще труднее постигнуть, не испытав на себе ее чар.
…Случилось так, что часть обратной дороги домой я плыл по Оке. От Горького до Коломны, где Ока принимает в себя Москву-реку, что-то около тысячи километров. Пять суток теплоход «Максим Горький» истово шлепал плицами по спокойной окской воде, не мешая ни думать, ни любоваться далями. Попадались и холмы, и горки, но все равно — и с холмами, и с горками — то было типично русское наше раздолье. Ока не только не ослабила чусовских впечатлений, а — по контрасту — еще сильнее закрепила их в памяти…