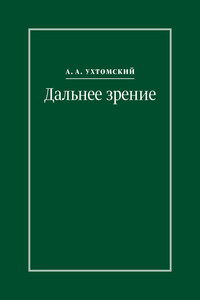Наша прекрасная Александрия. Письма к И. И. Каплан (1922–1924), Е. И. Бронштейн-Шур (1927–1941), Ф. Г. Гинзбург (1927–1941) | страница 41
Наше время живет муками рождения этого нового метода. Он оплодотворит нашу жизнь и мысль стократно более, чем его прототип – метод Коперника.
Покамест метод этот был и есть только в отрывках и пробах. Но все-таки то, что остается закрытым от премудрых и разумных, так часто бывает открытым для детей и для всякого простого, действительно любящего человека. Моя покойная тетя, которая меня воспитывала, простая и смиренная старушка, своим примером наглядно дала мне видеть с детства, как обогащается и оплодотворяется жизнь, если душа открыта всякому человеческому лицу, которое встречается на пути. Постоянная забота о другом, можно сказать, была ее постоянной «установкою». Старая девушка, не имевшая так называемой «личной жизни» или «счастья» в обыденном, ужасно принижающем человека смысле слова, – она была для людей подлинным «лицом» и желанным Собеседником, к которому стекались и далекие, малознакомые люди за советом и утешением, потому что она ко всякому человеку относилась как к самодовлеющему «лицу», ожидающему и требующему для себя исключительного внимания. Она имела возможность относительно покойно и безбедно жить в своем углу с некоторым комфортом, фактически она обо всем этом забывала и тряслась по осенним проселочным дорогам в распутицу, оставляя все свое, и с опасностью для жизни в ледоход тронувшейся Оки под Нижним переправлялась на ту сторону, и все потому, что у ней не было жизни без тех, кого она любила и без кого у ней, собственно, и не было жизни. А любила она, можно сказать, всех, кто ей попадался, требуя заботы о себе. То она воспитывает своих младших братьев в громадной семье моего деда, то берет к себе осиротелых детей от прежних крепостных, потом отдается целиком многолетнему уходу за параличной матерью, в то же время подбирает двух еврейских девочек, оставшихся после заезжей семьи, умершей от холеры, и отдается этим девочкам с настоящей страстью, потом, схоронив мать свою, берет меня, на этот раз с тем, чтобы умереть на моих руках. Под влиянием живого примера тети я с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то «человеке вообще» и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная «прислуга», а рядом за стеной мучается совсем конкретный человек с поруганным лицом.
И под влиянием того, что я знал мою тетю, я совсем особенным образом воспринял «Душечку» Чехова. Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и о ком заботиться, и увядала, если в заботах ее более не нуждались? Такая она простая и смиренная, с такой застенчивой полуусмешкой говорит о ней Чехов! А она ведь, серьезно-то говоря,