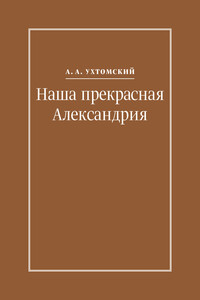Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) | страница 137
У христиан вера принимается как орган предвосхищения истины. У внешних она принимается как самодовлеющая идеалистическая настроенность, как психологическое состояние, могущее быть рекомендовано по тем или иным основаниям. Внешние, – прежде всего христианские еретики, – сами себя и критикуют, когда критикуют «фидеизм» в качестве специальной установки действия. В наших глазах не всякая «вера» есть уже и истина, но есть вера истинная, когда она вера в истину; ибо истина бытия познается человеком не иначе, как верою, проектированием на расстоянии, предвосхищением будущего, совестью. Внешние же – самое состояние веры, экстаза и энтузиазма превращают в суррогат истины. С нашей точки зрения это и есть опасное порождение идеализма, мистическое извращение гордого человеческого сознания.
Знание – осязание, вера – зрение. Одним осязанием, как оно ни достоверно, нельзя открыть и понять, что такое солнце. Сняв, ради метода, голову с ее высшими рецепторами, нельзя узнать ничего.
Характерная и загадочная зависимость: человечество показало себя весьма заинтересованным в том, чтобы была устранена мысль о космической ответственности человеческих дел; при этом «философы» оказались склонными ставить Богу в упрек «аморализм» природы; с другой стороны, истинная надежда и установка жизни устремлены именно на этот индифферентизм Космоса к добру и злу, дабы избежать мысли об ответственности жизни! Все усилия и пафос Ренессанса в том, чтобы «освободиться от обязательств» и превратить обиход жизни, в том числе и брак, в забавное отправление природных побуждений, по возможности без «закона», без «правила», без «вынуждения», а в свое удовольствие. Существенно другой мотив, конечно, там, где предупреждается слишком упрощенное и прямолинейное перенесение на Космос условно-человеческих представлений о добре, зле и возмездии.
«Нисей согреши, ни родители его, но да явятся дела Божия на нем». Это тот же мотив в Евангелии, как и в книге Иова.
Сплошь и рядом под знаменем закона добра и зла, излагаемого, как закон справедливости (возмездия), гноится дух самоутверждения и самооправдания в виде зависти и ненависти (Златоуст). Отсюда веление Божие первому человеку не вкушать от древа познания добра и зла, и отеческое показание, что и в раю совершенному во многом человеку познание это было еще несвоевременно (Григорий Богослов). Требовался исторический процесс от праотцов до пророков, и от пророков до Христа и церкви, чтобы воспитать человечество к известным степеням постижения добра и зла как мирового закона, служащего восхождению в еще более всеобъемлющий закон милосердия, приобщающий человека Жизни Божией.