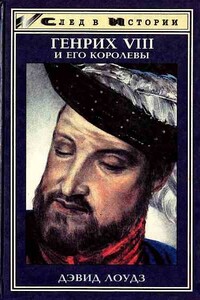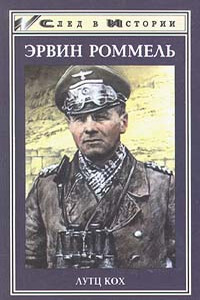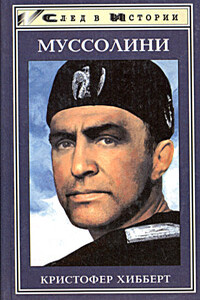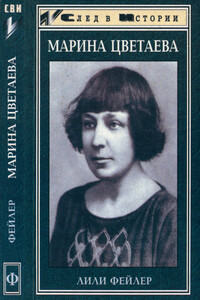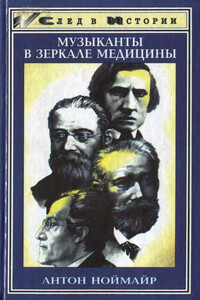Диктаторы в зеркале медицины | страница 111
После легких успехов в начальной школе подобный катастрофический провал должен был вызвать шок и послужить вызовом его нарциссическому характеру. Но вместо того, чтобы собрать в кулак все силы и преодолеть кризис, он все больше погружался в мир фантазий. Он начинает сторониться людей, все его интересы ограничиваются играми в войну, которые дают возможность выступать в роли лидера, убеждать других и повелевать ими, что в еще большей степени усиливало его нарциссизм. Военные игры, ход которых зависел только от его буйной фантазии, приводили также к тому, что он все дальше уходил от действительности и оперировал лишь несуществующими фигурами и событиями.
Нарциссизм и интровертность юного Гитлера уводили его в мир фантазий, где он мог играть роль непобедимого вождя и воина, хорошо иллюстрирует событие, рассказанное другом его юности Августом Кубицеком. Речь идет об экстатической реакции Гитлера на представление оперы Рихарда Вагнера «Риеици». Через много лет он рассказывал другу юности, что действительно идентифицировал себя с народным трибуном Кола де Риенци, чей революционный энтузиазм на исходе средневековья потерпел крушение из-за непонимания народа.
Если бы он был в состоянии признать, что сам виноват в собственной неудаче, и преодолеть ее усиленным трудом, то тяжкие последствия этой неудачи еще можно было бы предотвратить на ранней стадии. Однако безграничный и не допускающий критики нарциссизм лишил его такой возможности. По Фромму, возникла ситуация, в которой «он был не в состоянии изменить действительность и фальсифицировал ее, объявив учителей и отца виновниками собственного провала и считая сам этот провал проявлением страстного стремления к свободе и независимости. Создав символ «Художник», он таким образом отверг реальность. Мечта стать великим художником сама стала для него реальностью. Тот факт, что он серьезно не трудился для достижения своей мечты, доказывает, что эта идея была не более, чем фантазией. Провал в школе был его первым поражением и унижением, за которым последовал ряд других. Можно с полным основанием предположить, что его презрение и ненависть ко всем, кто был причиной или свидетелем его поражений, значительно возросли. Если бы мы не располагали серьезными основаниями считать, что его некрофилия коренится в злокачественной кровосмесительной привязанности, то ее появление можно было бы объяснить этой ненавистью».
Исследуя последствия конфликта с отцом для психики Гитлера, Хельм Штирлин еще раз останавливается на роли матери. По мнению Штирлина, несмотря на явную доминацию отца и неограниченное его лидерство в семье, все же «сильнейшей родительской реальностью» был для Адольфа не отец, а слабая, безнадежно запуганная им мать, ибо в ней Адольф видел родительскую фигуру, которая делегирует ему полномочия. Можно в действительности представить себе, что мать увидела в живом, обладающем сильной волей, сыне шанс обрести союзника в безнадежном сопротивлении супругу. Согласно гипотезе Штирлина, Адольф должен был таким образом стать ее «лояльным делегатом», помогающим ей в борьбе с супругом за самоутверждение, и, возможно, способным своими будущими успехами сделать ее жизнь интереснее и осмысленнее. Однако вклад юного Адольфа в ату борьбу на стороне матери мог быть самым минимальным и выразиться не более, чем в пассивном сопротивлении типа школьного провала или отказа от карьеры чиновника. Если это действительно было так, то смерть отца должна была означать, что пробил час свободы осуществления планов на будущее. Однако на деле ничего подобного не произошло. Адольф продолжал жить точно так же, как и до этого, по выражению Смита, он представлял собою «чуть больше, чем конгломерат игр и фантазий».