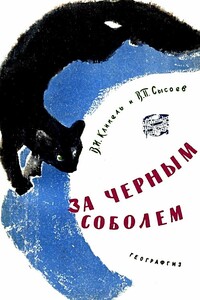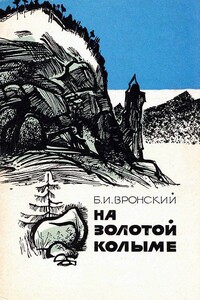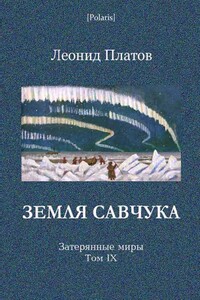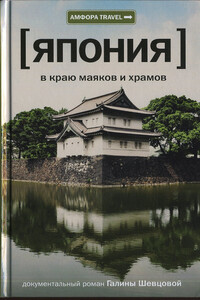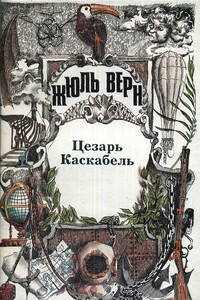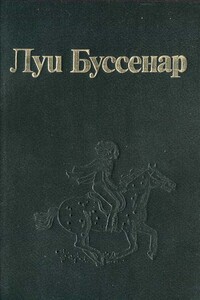По южным странам | страница 6
— Да кто-е знает. Саженей, поди, двадцать будет, а то и поболе. Впереди у нас озеро встренется, там мужики три возжи связали, дна не достали.
Корчагин объяснил мне, что в давнем прошлом здесь было озеро. Оно постепенно зарастало от берегов (где кончается ельник с рослой сосной, там был берег озера) тростником, камышом, потом протянулась сплавина, все более и более сокращавшая водное зеркало. На сплавину двинулись сперва гипновые мхи, а за ними и сфагновые. Гипновые мхи успешно развиваются, когда связаны с грунтом, а сфагновые, наоборот, чем дальше от них минеральная почва, тем быстрее они растут, образуя все более мощный слой торфа. По этой причине верховое сфагновое болото всегда оказывается выпуклым в центре, как огромный каравай.
Если взять разрез торфяной залежи сверху до самого дна, то по этой колонке можно прочитать всю историю болота. В самом низу — первоначальное дно озера, выше — слой тростникового торфа, над ним — осокового, потом осоково-гипнового и под конец уже сфагнового торфа. Этот последний идет до самого верха. Торфяная толща — отличное хранилище растительных остатков, потому что в кислой среде разложение происходит очень медленно. В слоях торфа тысячелетиями сохраняются семена, плоды, обломки веток и, что самое примечательное, цветочная пыльца. А по пыльце можно определить, какому виду растения она принадлежала, и, значит, узнать, какие растения росли на этом месте или по соседству в то время, когда отлагался тот или иной слой торфа.
Так возник особый способ изучения истории болот и вообще истории растительности — пыльцевой метод.
Корчагину очень хотелось взять образцы торфа с разных глубин. Но как? У нас с собой был торфяной бур. Его неохотно таскал Петрович, а у меня с Корчагиным было по метровой штанге. Всего, таким образом, на трехметровую глубину. Еще два метра нарастили стволиком сосны, привязав его к верхней штанге. Но на большую глубину опустить не решились: как бы не потерять самый бур.
Пока возились с образцами торфа, солнце ушло за полдень, а мы ведь прошли только половину пути через Журавлиху. Надо поспешать к «берегу», к той синей зубчатой полоске, что видна впереди. Ночуем в поле, на краю болота, не успев засветло дойти до настоящего суходола. Под ногами кукушкин лен. Грунт хотя и близко, а все же сыро, не ляжешь спать наземь. Но и здесь выход нашли. Петрович выбрал участок, где деревца погуще и вроде бы попарно растут, сделал зарубки на стволах, укрепил на них над землей поперечины и уложил рядами, одна к одной, тонкие упругие жердины, застелив их еловыми лапами. Получилось ложе вроде пружинного матраца. Правда, от костра я оказался чуть далековато и хоть заснул быстро, покачиваясь на пружинах жердин, все же малость иззяб к утру. Но уже был готов горячий чай из бурой болотной водицы и ароматная солдатская говядина, разогретая в жестянке па угольях.