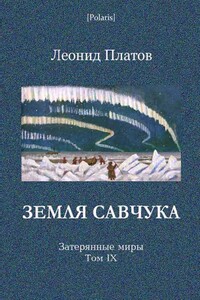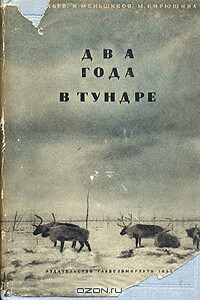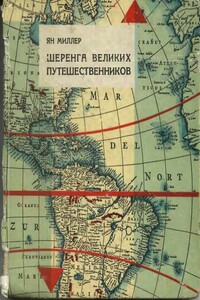Листья лофиры | страница 69
— Маланга, — говорит мне Селябабука, показывая на лофиру.
Так называют это дерево фульбе. Но мне нравится и латинское «лофира» — есть в этом названии что-то свежее, утреннее, звонкое.
Пусть человеческая память несовершенна, но я не сомневаюсь, что теперь, вспоминая Африку, буду всегда вспоминать и лофиру, ее золотистую зелень на фоне черных пожарищ.
На обратном пути мы купались в Конкуре. Автобус остановился у металлического моста с высокими прямоугольными фермами, и мы спустились по базальтовым развалам к самой воде, разделись и, стараясь не побить лодыжки об острые каменные выступы, попрыгали в воду.
Там, где мы купались, один из рукавов Конкуре образовал залив, и я сплавал на другую сторону его, сплавал и тотчас же вылез на берег, и все тоже быстро выбрались из воды. Мутная, серовато-желтая вода была так неестественно тепла, что купание не освежило, а даже разморило нас… Во всяком случае, Нейштадту, который в неизменной черной паре наблюдал за процедурой омовения, не пришлось нам завидовать. А теперь, уже в ресторане «Отель де Франс», мы сидим за столиками, пьем вино со льдом и обсуждаем купание, или, вернее, те последствия, которые оно могло иметь или еще будет иметь. Отчасти в этом виноват посольский врач. Он зашел в отель, узнал, что мы купались, и страшно разахался.
Врач прочитал нам целую лекцию о болезнях, которая непосредственно нас касалась лишь в одном: оказывается, пресные воды тропической Африки заражены злокачественной и чрезвычайно коварной трипанозомой, проявляющей свои болезнетворные способности спустя шесть месяцев после купания.
Но как ни грозно звучит предупреждение посольского врача, трипанозома все-таки произвела на нас меньшее впечатление, чем внушительного размера крокодил, которого мы после купания обнаружили под мостом, переезжая Конкуре, — он дал нам больше пищи для размышлений. Прибегая к помощи теории вероятности, мы не без некоторого душевного трепета до сих пор обсуждаем происшествие… Мнения расходятся. Кое-кто прямо-таки недоумевает, почему крокодил не польстился на него в теплых водах Конкуре. А я, слушая разговоры, вижу перед собой равнодушно-меланхолическое лицо университетского бухгалтера, его рыжеватую руку, перечеркивающую мой авансовый отчет о поездке на Чукотку. Я составил его, по наивности полагая, что и на Чукотке, и во Владивостоке мне причитались одинаковые суточные. «Ничего подобного, — уверяет бухгалтер, — на пути к Владивостоку они заметно уменьшились». Почему? Это определялось финансовой дисциплиной, наверное, но бухгалтер сказал фразу, заставившую меня раз и навсегда разрешить для самого себя проблему опасности. «На Чукотке ваша жизнь находилась под угрозой, — сказал бухгалтер, — а во Владивостоке — нет». Спорить я не стал, но, кое-что сопоставив, пришел к выводу, что ни над ржавыми мокрыми равнинами Индигирской тундры, ни в бухте Эмма, зеленая чаша которой окружена сопками, задрапированными в шинельное сукно, ни на щебнистых вершинах Корякского хребта, ни у яранг в верховьях тундровой речки Алькатвеем, — нигде и ничто так определенно не угрожало моей жизни, как машины на улицах Владивостока, к которым я, с отвычки, все никак не мог приноровиться…