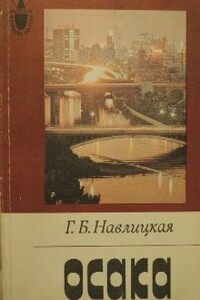По Японии | страница 90
Мы стояли на пустынной улице минут десять, пока наконец не вспыхнул вдали спасительный рубиновый огонек. Узнав, куда мы едем, шофер заулыбался, хмурое, усталое лицо его как-то сразу расправилось и посветлело:
— Вы молодцы! Вы увидите сейчас такое!!! — Дальше последовала загадочная улыбка.
И только попав через несколько минут на берег реки Сумиды, мы поняли эту загадочность и оценили это немногословное обещание.
Рынок занимает огромную территорию при впадении реки Сумиды в токийскую бухту. Сонно-безмолвный город повернулся к гавани холодными, отчужденными спинами домов. Туман, стлавшийся по Сумиде, закрывал берег и дырявыми клочьями сползал по стенам и крышам близлежащих кварталов.
Но снизу сквозь все эти толстые ватные пеленки, наглухо укутавшие реку, пробивался такой неистовый, такой неистребимый ритм трудовой деятельности, такое еле сдерживаемое ранними часами дыхание жизни, что само собой возникало представление, будто город как заснувший в бухте корабль: пустынны рубка его и капитанский мостик, не видно матросов, но где-то внизу, ни на минуту не затихая, идет работа, неумолчным эхом, глухо и сосредоточенно выбивают пульс поршни, и, еле заметно отзываясь на их толчки, вздрагивает пустынная палуба…
Под покровом темноты и тумана с океана в устье Сумиды шли и шли корабли и кораблики, баржи, моторные боты, флотилии лодок, какие-то неповоротливые посудины, груженные доверху и чуть не черпающие кормой черную маслянистую воду. Вполголоса, чтобы не разбудить город, перекликались гудки, торопливо что-то буркая друг другу, ворчливо переругиваясь, освобождали место вновь прибывшим маленькие катера.
А на берег с этих морских колымаг катились, лились, сыпались тысячи тонн рыбы и других бесценных даров морских глубин! Казалось, море задалось целью затопить город серебром чешуи и гнало на серые домишки перламутровые, жемчужно-розовые, зеленоватые волны трепещущей живности, нагромождая все выше и выше свои сокровища.
Одноглазые черно-чешуйчатые камбалы, белые с одного бока и плоские, как игральные атласные карты, летели на асфальт, словно мощная рука тасовала нескончаемую карточную колоду. Треска и мелкая рыбешка мутным, без блеска, потоком шли в закрома и специальные отсеки. А вслед за ней хлынул из подошедшего танкера жемчужно-голубой паводок сардины.
Из промысловых рыб сардины занимают первое место по улову. Не пытаясь конкурировать с ними в количестве, но зато полные ощущения своей необыкновенной значимости, проплыли в корзинах желтохвостые, самодовольные жители Цусимского пролива и течения Куросиво. Огромные рыбы, доходящие весом до 40 килограммов, били своими плоскими золотыми хвостами, так и норовя хлестнуть по рукам и лицам удачливых рыбаков, перехитривших их, (Около 50 тысяч тонн желтохвостов в год удается поймать японским рыболовам). Палтусы, головли с тяжелой чешуей, как будто закованные в панцири, падали рядом с синими морскими угрями и золотой макрелью с коричневыми полосками на спине. Но самым важным в этом пестром смешении рыб выглядели тунцы. Крупные, гладко-сытые, блестящие, торжественно улегшиеся сомкнутыми черными рядами. Для японского рыбака тунец — своего рода драгоценность, мясо его очень высоко ценится, и если случается рыбаку сбиться с курса или бурей унесет его в сторону с заданного маршрута, то, возвращаясь к родному порту, он будет питаться мелкой рыбешкой, жевать морские водоросли, но не тронет тунца. Мясо тунца подают сырым — нежное, розовое, тающее во рту, оно — дорогое украшение японской национальной кухни. «Оно — для других зубов», — отшучиваются рыбаки.