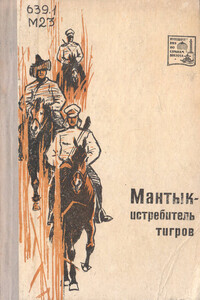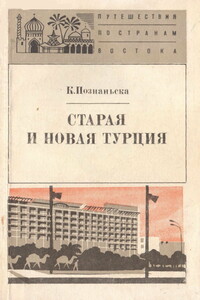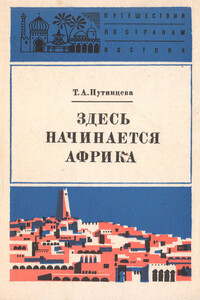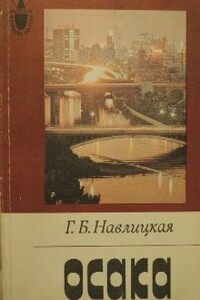По Японии | страница 112
А машины японских и иностранных марок все везут и везут туристов. Все, что идет вверх от храмового ансамбля, превращено в фешенебельное место отдыха, где «сервис» — необходимое добавление к красотам природы. Например, к известному водопаду Кэгон, широкая струя которого хлещет со стометровой высоты, туриста доставляют на лифте. В горе продолблен тоннель с гудящими под ногами железными плитами, который ведет вас к подъемнику. Подъемник, как уголь «на гора», выбрасывает толпы туристов прямо к подножию водопада. У самого его основания, куда с грохотом бьет многотонная лавина, сделана небольшая деревянная вышка для обозрения.
Но, пожалуй, не хуже этого красавца менее популярный и, конечно, менее мощный водопад Рюдзу — «Голова дракона», по преданию, возникший из тысячи змей-струй, брошенных на скалы. Туристов здесь значительно меньше. И уж совсем нет ни души у небольшого водопада Юдаки, у озера Юноко. Правда, добраться до него не так просто. Прекрасные отели с зеркальными стенами, белыми купальнями и крыльями яхт на глади озера, так же как и комфортабельные автострады, останутся далеко внизу, пока по пыльной, вихляющей, разухабистой дороге доберешься, наконец, до маленького сиреневого озера. Зато необычайная тишь и первозданная, нетронутая красота величественных гор, косматых струй водопада, прямо посредине которого на черном камне дрожит красная осинка, восполняют сторицей тяготы пути.
Возвращались мы из Никко поздним вечером. Дорога была совсем пустынна, смельчаков, вроде нашего шофера, было мало. Клубы тумана крутились перед машиной, как вихри снежного бурана где-нибудь в Подмосковье.
Два Никко провожали нас. Одно осталось наверху, в огнях отелей и вилл, в ритмах твиста, в затихающих шорохах моторок на озере. Другое в полном молчании проплывало слева. Прекрасные храмы — бесценные сокровища японского искусства — мирно спали, укутанные густым белым туманом.
Фонтаны и песчинка
По вечерам в душной полутьме светятся призывные рекламы театра Кабуки.
Здание театра громоздко и эклектично. Впечатление такое, будто зодчий, завершив европейское по виду строение, вспомнил, что оно находится в Японии, и решил добавить к каменной кладке и балконам, опирающимся на лепные консоли, необходимую специфику восточной архитектуры. Легкие шатры выгнутых крыш, как большие шляпы, глубоко нахлобучены на тяжелые каменные стены.
Мы смотрели в театре Кабуки многочасовую историческую драму. Был храбрый даймё, были страдания самурая, пожертвовавшего своей любовью из верноподданнических чувств к сюзерену, был звон сямисэна, бормотание барабана «цуцуми» и черные фигуры служителей сцены «куромбо», была неизменная, всегда поражающая европейца традиционность Кабуки — сочетание условности и реализма. Словом, Кабуки оставался таким, каким мы его видели во время его гастролей в Москве, каким он оставался в течение веков, ибо его настоящее — это бережно сохраненное прошлое, истоки которого восходят к XVII столетию.