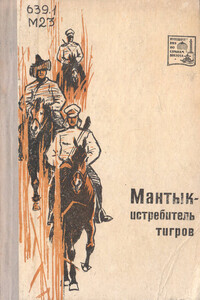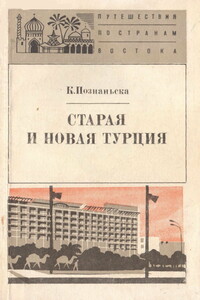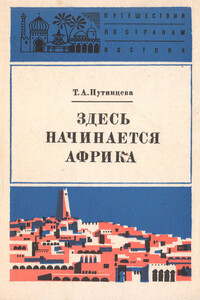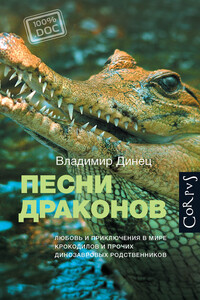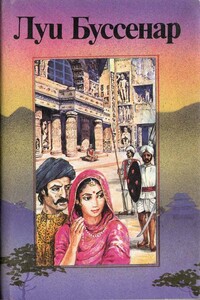Настоящая радуга | страница 23
Моулмейн, как уже отмечал Энквист, имел в это время значительное европейское население — более двух тысяч человек. В нем быстро рос так называемый европейский город — явление типичное для колониальных стран. Это зеленый, тенистый район города, где редко и живописно разбросаны в тени пальм и манговых деревьев более или менее элегантные виллы. Такие районы и целые города в конце прошлого века росли по всей Южной и Юго-Восточной Азии и Африке. Они были таким же обязательным элементом колоний, как европейские яхт-клубы и тяжелые «колониального стиля» административные здания, до удивления чужеродные в странах Востока с их легкой и практичной архитектурой. Про этот «новый город», вернее, про население его Дмитриев писал: «Это все бары, высшее чиновничество, офицерство, которые не смешиваются с чернью».
А рядом кипел «туземный» город. Там Дмитриеву нравилось куда больше. И присутствие европейцев никак не стесняло. «Да и лучше, что не видно их чопорной неприветливости, презрительного отношения ко всему не английскому. А туземцы: и бирманцы и тальены (таланиги-моны. — Авт.) и карены… весь народ простой, бесхитростный, с которым очень приятно иметь дело».
Пребывание в Бирме запомнилось Дмитриеву на всю жизнь. И характерно, что сорок лет спустя, уже стариком, Дмитриев, полемизируя со сторонниками теории об исконном отставании «низших восточных рас», писал: «Не время и не место распространяться здесь об особенностях бирманской культуры… Но нельзя и не сказать, что это не дикари… это не дикость, а своя особенная культура… Не смотрите, что он прикрыт только коротенькой юбочкой, — он мыслит, он рассуждает, он по-своему образован, знаком с внутренней жизнью человека и думает о ней не меньше европейца, — конечно, своим особенным, не похожим на европейский, способом мышления».
Но наибольший интерес для нас представляет описание Дмитриевым бирманского театра — первое сообщение о бирманском искусстве в русской литературе, полученное из первых рук, причем пишет о бирманское театре знаток, занимавшийся этим вопросом в России сам поставивший ряд спектаклей.
Представления, на которых побывал русский путешественник, были приурочены к бирманскому Новому году, приходящемуся на апрель. Это праздник воды, знамение приближающегося муссона, граница сухого дождливого периодов.
Бумажные разноцветные фонарики освещали сцену, на которой молодые актеры давали представление, изображая в танце посев и уборку риса, различные ремесла, окраску тканей. Затем Дмитриев отправился в другой театр, где показывали пве — классическое бирманское представление, сюжетом которого обычно являются буддийские мифологические мотивы, сдобренные танцами и шутками.