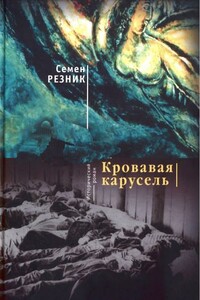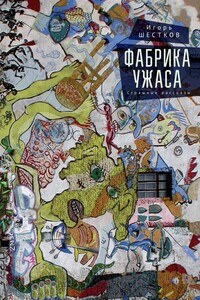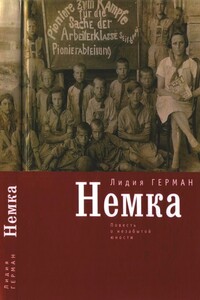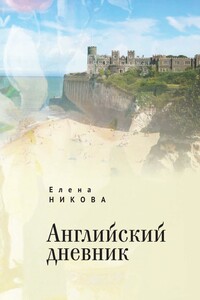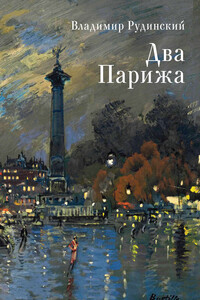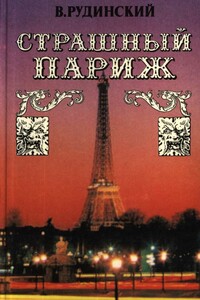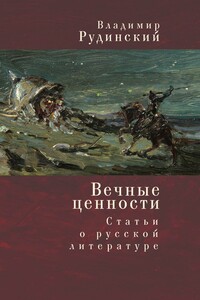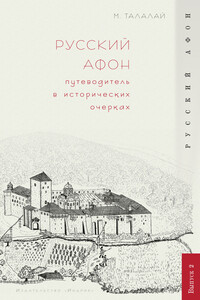Мифы о русской эмиграции. Литература русского зарубежья | страница 63
Она, не обманутая, оставалась с истинной Россией, и знала, где искать настоящую Россию:
Ее взором открывалось, что нужнее всего родине, что для нее всего драгоценнее:
Перед лицом бури, лучшие, правильнейшие слова к ней приходили, и слагались в пророческий призыв:
И по праву могла она к себе применить собственные строки:
Авось, Царь-Мученик ее и наградит в раю; ибо люди с ней поступили бесчеловечно и безбожно.
Устами Цветаевой, в те годы, словно бы говорили вместе все жены и матери, чьи близкие боролись за правое дело:
Но с совсем не женским мужеством прославила она единственный в ту пору верный путь:
Несокрушимой твердостью, неколебимой стойкостью дышат ее стихи:
Поэму «Перекоп» – ее и цитировать трудно; надо сплошь читать, во всей ее силе и правде. А в не менее прекрасном «Лебедином стане», откуда я уже столько отрывков привел, едва ли не самые замечательные строфы попадаются под конец, – недаром их теперь ставят в эмигрантских календарях:
Цветаева рассказала в своих воспоминаниях, как она в 1921 году в Москве читала перед красноармейцами стихи со словами:
в которых видела «свою, жены белого офицера последнюю правду».
Но, может быть, еще более значительными, глубоко провидческими, оказались другие ее – не начинающие ли ныне сбываться? – стихи:
«Наша страна» (Буэнос-Айрес), 27 апреля 1976, № 1365, с. 1.
Марина Цветаева, «Проза» (изд-во имени Чехова, 1953)
Книга может доставить читателю живое и большое удовольствие. Но относительно формы ее издания возникает ряд вопросов и сомнений. Это – своего рода дневник писателя. О себе Цветаева все время говорит, как о поэте, задачу своей жизни видит в писании стихов, с друзьями и литераторами встречается как поэт, соприкасается с ними через свои стихи. Многое в ее рассказе только и можно понять, если знать ее стихи. А это любознательному читателю дается нелегко. Пойди-ка, найди их, раскиданные (как говорится в примечании) по «различным периодическим изданиям русской эмиграции», изданные отдельными сборниками в Москве, Берлине и Праге! Без стихов же, проза Цветаевой – дом без ключа.