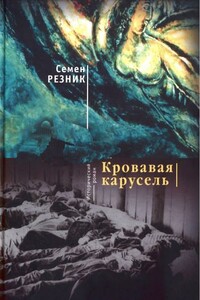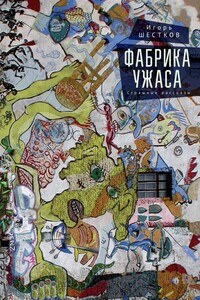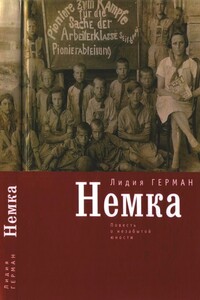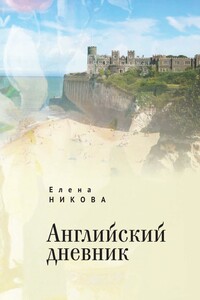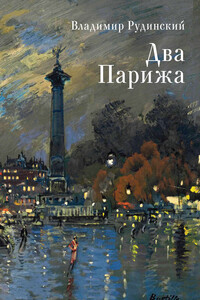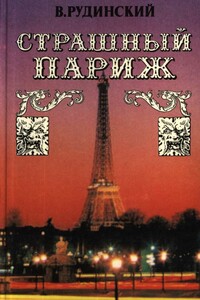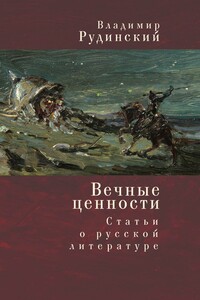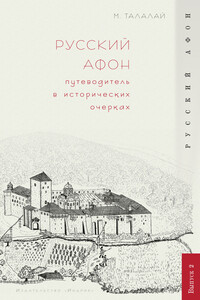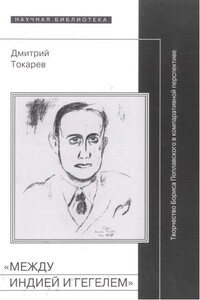Мифы о русской эмиграции. Литература русского зарубежья | страница 60
Но еще лучше в «Смене» места, где автор показывает тех, к кому относится название романа, – молодых интеллигентов-разночинцев, идущих на работу в земство. Тут мы даже не встречаем очень ярких индивидуальных образов, а скорее некоторый собирательный тип среды и времени. Их бурный динамизм, их идеализм, то желание служить людям и науке, которое их до краев переполняет, вызывали бы у нас восхищение и гордость, если бы рядом не виднелась неумеренность их требований и бескомпромиссность их воззрений, никак не мирящихся с постепенной эволюцией и не допускающих приспособления к реальным условиям. Сколько пользы такие люди могли бы принести России, если бы правильнее понимали свои задачи и цели.
Некоторые места заставляют улыбнуться не только над ними, но и над самим автором. Наиболее близкий ему герой, Федор Евдокимович Прытков, встречает в гостях двух молодых людей, студента и лицеиста, и заводит с ними разговор об их идеалах. Он совершенно убит и скандализирован, когда студент принимается с увлечением говорить о научных проблемах филологии, а лицеист – еще хуже! – высказывает свое уважение к отцу Иоанну Кронштадтскому. Что сказать о мире, где студенты должны были заниматься политикой, но никак не наукой, и где вера казалась абсурдом! Жаль, что то поколение, которое должно было сменить эту «Смену» разночинцев, увлеченных левой стихией, постигла роковая судьба. Оно, быть может, сумело бы предотвратить нынешний ужас… если бы имело на то время.
С чисто художественной точки зрения, роману сильно вредит неожиданная и немотивированная развязка – случайная и внезапная смерть главного героя от не ему предназначавшейся пули. Это производит впечатление какого-то «Deux ex machina»[118], тем более, что гибель его постигает в момент, когда он стоит на распутье, не зная, какое направление выбрать, и таким образом любопытство читателя остается неудовлетворенным. Случись это в момент его разочарования или, наоборот, – счастья и удовлетворения, впечатление от книги было бы сильней. Странным образом, не только здесь, а и вообще у Эртеля заметен этот недостаток: он как-то не умеет давать логического и естественного конца.
«Возрождение» (Париж), рубрика «Среди книг и
журналов», февраль 1955, № 38, с. 146–148.
Сбывающееся пророчество
В романе В. Крыжановской «Эликсир жизни» (самом талантливом из ее многочисленных произведений) мы наталкиваемся па следующее размышление одного из героев:
«Настанет час, когда возмущенная природа жестоко отомстит преступному человечеству. Истощенная земля откажет ему в своих плодах, реки обезрыбеют и уничтоженные и пустые леса не дадут ни тени, ни свежести. Охлажденный воздух будет лишен теплоты и кислорода. Возмущенные стихии приведут в ужас весь мир неслыханными катаклизмами. Бури, землетрясения и град невиданной величины уничтожат поля и деревья. Вода или выступит из берегов или высохнет. Земля превратится в ледяную пустыню – и, в заключение, воспламенятся газы».