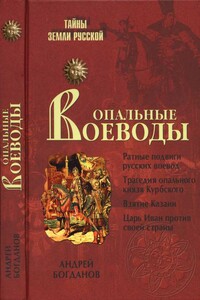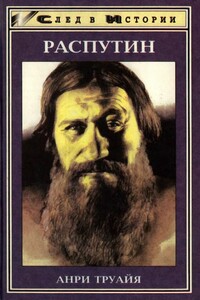Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах | страница 74
В жанровом отношении господствующей формой презентации истории в эпоху Ренессанса постепенно становится так называемая национальная история, то есть история нации — воображаемого сообщества, объединенного общим происхождением, территорией, языком и другими, более или менее значимыми культурными характеристиками. В то время как риторические основы нового историописания были заложены еще во флорентийских «коммунальных» историях XV–XVI вв. («История флорентийского народа» Леонардо Бруни (1476 г.)[290], «История Флоренции» Никколо Макиавелли (1532 г.)[291]), на формирование национальных рамок историописания и его содержательной топики большое влияние оказала «Иллюстрированная Италия» («Italia Illustrata») Флавио Бьондо (1474 г.)[292].
В результате в XVI в. оформился жанр национальной истории, распространителями которого в Европе первоначально становятся так называемые странствующие гуманисты — итальянские уроженцы, работавшие над составлением национальных историй стран заальпийской Европы по заказу местных властей (Антонио Бонфини в Венгрии (1488 г.), Филиппо Буонаккорси (Каллимах) в Польше (1484 г.), Паоло Эмилио во Франции (1516–1529 гг.), Лючио Маринео в Испании (1530 г.), Полидор Вергилий в Англии (1534 г.), Людовико Гвиччардини в Нидерландах и др.). Впоследствии новый жанр историописания со всеми свойственными ему характеристиками осваивают и местные интеллектуалы. Вскоре они оттесняют итальянских первопроходцев в деле изучения своих национальных древностей и даже подвергают сомнениям те или иные результаты их штудий, причем, как правило, с позиций большего удревнения корней своей нации и большей артикуляции идеи ее автохтонности и самодостаточности.
Наконец в содержательном плане для развития новой историографии огромное значение имели открытия новых источников, причем как аутентичных, так и фальсификатов. К числу последних в первую очередь относится трактат «Древности» («Antiquitates»), якобы написанный вавилонским мудрецом Берозом еще в IV в. до н. э. В числе других античных источников (большинство из которых также были подделками) трактат Псевдо-Бероза вошел в собрание, впервые опубликованное в 1498 г. доминиканским монахом Джованни Нанни из Витербо и впоследствии выдержавшее множество изданий в разных странах Европы. В трактате Псевдо-Бероза европейской читающей публике было впервые предложено всеохватывающее генеалогическое древо современных европейских народов, составленное таким образом, что ключевые фигуры античных и средневековых мифов о происхождении (троянцы, первые римляне и т. д.) оказались потомками тех или иных библейских патриархов — потомков Ноя. Тем самым была заполнена лакуна между библейской и античной историей, что позволило европейским историкам возводить корни своих наций к библейским временам