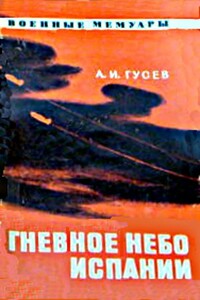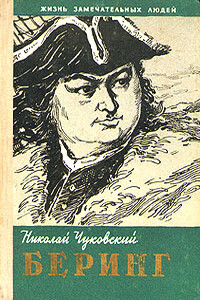Гавел | страница 32
В 1956 году под влиянием речи Ярослава Сейферта на съезде Союза чехословацких писателей двадцатилетний Гавел совершил свою первую вылазку в мир официальной литературы – сначала в статье «Сомнения относительно программы»[84], опубликованной в литературном журнале «Кветен», а затем в выступлении на семинаре молодых писателей в переданном Союзу писателей замке Добржиш (который вполне можно назвать характерным для той эпохи символом обрастания литературного истеблишмента атрибутами барственности) Гавел, как до него Сейферт, просил принять изгнанных писателей, среди которых многие были завсегдатаями «Славии», обратно в Союз чехословацких писателей. Однако его слова упали на неподходящую почву.
Но не все эскапады Гавела в середине пятидесятых годов имели интеллектуальный характер. К большому неудовольствию своей матери, он пристрастился к ночной жизни и начал шататься по барам и пабам с друзьями, разделявшими это пристрастие, каким был, например, довольно темный тип, скандалист и денди Владимир Вишек, впоследствии более известный как писатель Теодор Вилден[85]. Гавел, видимо, сам пытался разыгрывать аналогичную роль, носил «кок» – нечто наподобие нынешнего «ирокеза», галстук в крапинку с большим узлом, туфли с задранным острым носом, которые назывались «мадьярами», полосатые носки, брюки с сужающимися книзу штанинами до щиколоток, чтобы видны были носки, и пиджак с разрезами[86]. На языке того времени – стиляга да и только! Он ходил в танцклуб, что прочно ассоциировалось с буржуазным воспитанием, и там пытался, поначалу без успеха, сблизиться с представительницами противоположного пола.
Позднейшее творчество Гавела заметно отличается от его ранних опытов периода «Тридцатишестерочников». Сравнив себя с более яркими поэтическими дарованиями, такими как Иржи Паукерт или Виола Фишерова, он со временем отказался от дерзаний на поприще поэзии. Отверг он как в корне неверные и свои ранние философские опыты. Путь к высшему образованию в области искусств или философии ему преграждало не то происхождение. Но это было не самое главное. Благодаря «Тридцатишестерочникам», столу в «Славии» и своим собственным усилиям Гавел сделался неотъемлемой частью пражского интеллектуального мира, точнее – его теневого, инакомыслящего, богемного «подполья». И он, чем бы ни занимался в будущем, всегда оставался верен ему.