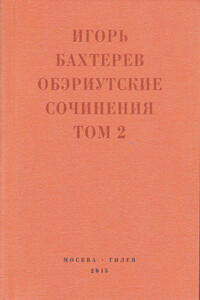Тендеренда-фантаст | страница 23
Один фабрикант молитвенников произнёс пролог[62], и театр зашатался от круговращения толпы народа. Шляпными булавками были закреплены фронтоны, а с балконов свисали голодные ленточные глисты, elomen[63]. Диспозиционное тело Голиафа было открыто, десять этажей выпали. В башенку принесли гремучих змей, и бараний рог играл к пятичасовому чаепитию.
О, этот век из электрического освещения и колючей проволоки, могучей силы и пропасти! Что тут делать документам муки? Перед воинственным народом, перед собравшимся хором редакторов поэзии? Лаврентий Тендеренда, или миссионер среди потных ног и краснокожих академии телесных упражнений. Книга веры и башня кашля. Я хочу идти впереди материи хорошо накормленным. Комнатное фехтование мне не нравится. Если бы ещё не было этого постоянного хлоридно-серного смертного хрипа. Ни шагу больше, или я захриплю.
Вот они отправились пустить вскачь их трёхместное серое животное. Граната, лимон и венецианский голубой дым их зубчатой стражи. Теперь курица высиживает яйца на торжественной мессе, а они гоняются за ней с бубенцовой торбой. В цинковой мази они варят свои карманные часы, а Нострадамуса закрашивают гелиотропом.
Это по мне и есть настоящая сатанинская парфюмерия. Немного припахивает также мятым перцем и кончиком дратвы. Но во второй части скорбящие родственники застегнули на себе пояса с выдержками из Корана. Искусство как пряжка. Капуцинада с тремя продолжениями. Или энциклопедический молитвенный цилиндр. Или бездонно реющий взгляд в инфернальный мир потехи усачей.
Я был бы рафинэ, если бы не понимал этого. Я был бы рафинэ, если бы не хотел напуститься на бестию скамеечкой для обувания. Женский идеал немецкого народа не живёт в публичном доме услады. Какаду упал в яд. Синий всадник – это не красный велосипедист[64]. И я думал, что разлил бы это дело по бутылкам.
Вы посадили мне на кровать каракатицу. И корни её зубов подали мне на съедение. Я отведал валерьянки и протёр верхушку церковной башни наждачной бумагой. И я не знаю, принадлежу ли я к их верху или к их низу. Ибо событием здесь становится невероятное, но никогда – дозволенное.
Без преамбулы: с самого малолетства я дитя страсти. Мой венерический холм можно показать: там есть на что посмотреть. Четырнадцать дней я пролежал в соде. Зубы у безбожника растут долго.
Я мог бы декламировать исповедь и осенять крестным знамением. Кого бы это устроило? Я мог бы умастить свои кудри подсолнечным маслом и взять в руки арфу Давида. Кто от этого выиграет? Портретируя господ спекулянтов и колористов нового Иерусалима – что мне пользы от этого?