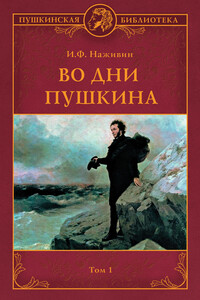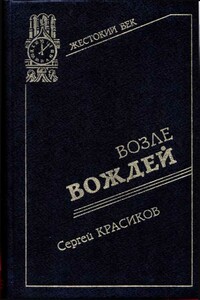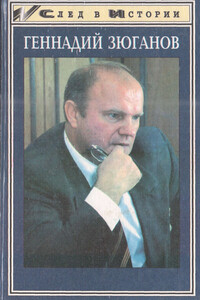Пушкин в Михайловском | страница 12
Однако ж тогда издеваться уж было бы нельзя, большая игра требует строгости и уважения. Но здесь была пущена в ход голая власть, а потому, веселясь, в ненавистном ему феодале мысленно он поражал простого ревнивца, умного дурака, которого удалось обмануть.
А впрочем, тут Пушкин невольно смыкал свои казавшиеся чуть набухшими, как у матери, веки, и при движении этом тотчас ощутимее становился все набегающий ветер, уже с едва уловимой прохладой, быть может, несущий отдаленную влагу, – ужели с Днепра? Брови немного от ветра ломило, только сейчас и заметил, но все ощущения эти были приятны. Закрыть глаза, ничего не рябит перед ними, не отвлекает, и мир воспринимается больше через осязание: самое сладостное и самое острое из всех наших чувств.
Эта едва ощутимая летучая влага, и эти касания, и как неустанно и нежно скользила струя упругого воздуха – все это уже далеко и от мыслей, и от борьбы, это вкушается самая жизнь – недавняя, страстно взыгравшая вновь, ворвавшаяся в сегодняшний день. Воспоминание вставало отнюдь не в слова, было оно столь же живое, как самая явь, и омывало его потоками чувств, осязаемых образов. Он неосознанно делал движение ртом, как бы освежая пересохшие губы, и открывал сразу глаза. Голубизна их глядела сгущенная, и влагой на них покоилась нега.
Так бы, казалось, и оставаться, покоиться и самому, но опять и опять, как сургуч на письмо, полное нежного чувства, капала горечь разлуки, насилия, над ним учиненного. И вот он порывисто вытягивал ноги и расправлял плечи, переплетал длинные пальцы и выкидывал их к спине ямщика.
– Пошел! Погоняй!
Торопиться ему было некуда, незачем, но были необходимы движение, быстрота. Если бы шел, железную палку кинул бы перед собою и побежал ее догонять.
Кони прибавили рыси. Он поглядел па худые свои и небольшие крепкие руки, приблизил к глазам. Перчатки торчали из-за сиденья: не надо, теперь ни к чему! Но под ногтями набилась дорожная желтая пыль. Хотел их почистить – щеточки были в ларце: оставим до вечера!
Аккуратно обернутый ватой, в ларце же уложен был и драгоценный предмет – загадочный сердоликовый перстень с еврейской надписью – память и талисман. Он ни за что не хотел подвергать его случайностям дороги и только повел глазами к задку запыленной коляски.
Никита все спал. Голова его перестала качаться, он круто откинул ее и опирался теперь затылком на порыжевшую кожу задка, тщетно стараясь вытянуть всласть свои непомерно длинные ноги. Высокий кадык время от времени ходил по жилистой шее: Никиту, видимо, мучила жажда, и он глотал слюну. Лицо его было невинно, спокойно. Пушкин глядел, как сладко спал человек. Потом ему пришла в голову шаловливая мысль. Он вытянул из-под подушки сиденья торчавшую оттуда соломинку и пощекотал у Никиты за ухом: детское баловство! Никита в ответ только смешно мотнул головой. Потом соломинка поползла по щеке, и спящий щекой как бы смаргивал ее прочь. Забавней всего оказалось у носа: кожа морщинилась, ноздри кривились и раздувались, пока, наконец, не раздался оглушительный чих. Человек в бакенбардах метнулся, моргнул и открыл белесые очи, в которых клубился еще крепкий, дремучий, непроворотный сон. Он был столь глубок, что воспитанный этот слуга, силясь бодриться, выпалил, как настоящая деревенщина: