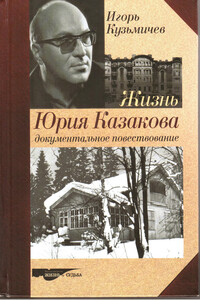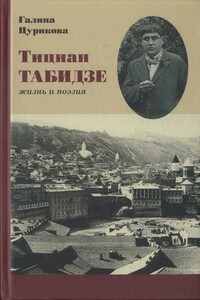Лицо другого человека. Из дневников и переписки | страница 39
Очередное из известных нам писем к Платоновой – спустя четырехлетие – от 2 сентября 1934 года.
«Дорогой друг Варвара Александровна, прежде всего привет Вам от Всякого дыхания, от Владимирской, от Ярого Ока, от Благого Молчания и от Не рыдай мене мати, – пишет Алексей Алексеевич, глядя на домашние иконы. – Весь уголок посылает Вам мир и благословение. А Вы пожелайте от души, чтобы он сохранился подольше в поддержку и в укрепление падающим силам…»
И следом предостерегает Варвару Александровну от излишней откровенности на бумаге. Он имеет основания думать: официальных охотников до их писем хватает, и надо быть «сугубо бдительным, чтобы не разыгрывать пьес по тем нотам, которые тебе представляются сторонними наблюдателями». Его осмотрительность вынужденная. «Полоса жизни и истории, в которую мы вошли и в которой приходится идти, – объясняет Алексей Алексеевич, – полна научения и содержания для того, кто имеет открытым слух и способность видения. Но вот чтобы сохранять слух и способность видеть, нужна бдительная дисциплина внутреннего человека…»
Среди непременных условий этой бдительной дисциплины – умение «ограждать себя молчанием». Алексей Алексеевич приводил в пример египетских пустынников, они при встречах не нарушали молчания, а «посидев один у другого и сказав привет и пожелание братским поклоном, уходили опять к себе». Он просил Варвару Александровну: «Что бы ни случилось еще впереди, надо бывать друг у друга самым главным – сознанием общности делания». Можно ведь встречаться ежедневно и молчать по существу, как бывает сплошь и рядом у людей, «болеющих нечувствием». А внешнее молчание пустынников было для них красноречивым и взывало: «Как подвигаешься, как твои паруса, благоприятно ли ведешь свой корабль под ветрами?» Ухтомский не сомневался, что ее корабль «держится на волне хорошо, и курс его правилен».
Плохо скрываемая тревога пронизывает это письмо. Чувствуется, как Алексей Алексеевич превозмогает себя, дабы в одночасье не оплошать перед очередными общественными фантазиями. Меняется исторический ландшафт страны, «прерывается прежний пейзаж ради новых насельников». «Ну, да это все неважно, – прибавляет он в конце письма, – а важно то, о чем напоминают эти перемены. Надо отвыкать от привычного и готовиться к новому…»
Удары, нанесенные стране в те три года, что отделяют это письмо от следующего, нам известного, помеченного апрелем 1937-го, – превзошли самые мрачные прогнозы. И все же середина 1930-х оказалась для Ухтомского чрезвычайно плодотворной. В 1934 году он возглавил образованный по его инициативе научно-исследовательский Физиологический институт при университете и, определяя стратегию работ, наметил направление «более широкого и общего значения, чем обычный путь классической физиологии», поставив целью изучать проблемы человеческого сознания комплексно, заложив первым в стране основы физиологической кибернетики.