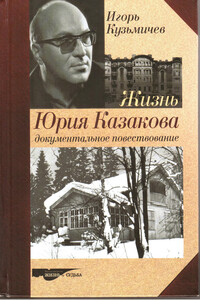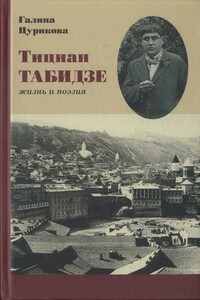Лицо другого человека. Из дневников и переписки | страница 19
Обычно, когда Ухтомский приезжал в родные рыбинские края, – а в 1915-м и 1916 годах он снова проводил там летние месяцы, – у него просыпалось недовольство Петербургом, «мрачным и грязным, мокрым и болеющим городом», где он не переставал чувствовать себя блудным сыном. Он сокрушался, что в питерском быту и климате он «гладом тает и не насыщается», что город этот унесет его силы и здоровье до срока.
Да, Петербург угнетал Ухтомского, – и не только климатом, но нарочитой ориентацией на Западную Европу, духом скепсиса и аморальностью, прагматизмом и бессердечием «каннибальской общественности». Ухтомский прямо заявлял: «Иногда кажется, что продал я духовное старешенство за питерскую жизнь, как Исав за чечевичную похлебку…» И все же, почему-то именно сюда, в столичный Университет, направился он после Духовной академии, здесь отыскал свою «келью с математикой» и свой единоверческий приход. В этом нелюбимом и раздражавшем его городе, который он до самой смерти так и не покинул, осуществилась его блестящая карьера ученого, создавшего вслед за И. М. Сеченовым и Н. Е. Введенским оригинальную школу в отечественной физиологии.
Недовольство Ухтомского Петербургом не было мимолетным или напускным. Оно было искренним и постоянным. И за этим постоянством скрывался и действовал какой-то тайный механизм, какой-то духовный излучатель, вырабатывавший огромную творческую энергию, извлекая ее как раз из противостояния милых верхневолжских краев, где всегда можно «возобновить» чувство родины, и официозной имперской столицы, из противоположности теплой отчины и казенного, декоративного Петербурга. В их нестихающем борении, когда Ухтомский вглядывался в глубь себя, за их неизбывным конфликтом пряталось что-то неуловимо влиявшее и на его самоанализ, и на воспитание воли, и на понимание общественных реалий.
В 1896 году в статье «Психология русского раскола» В. В. Розанов писал: «Есть две России: одна – Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определительно оканчивающимися, – „империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьев, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – „Святая Русь“, „матушка Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых не предвидим, начало безвестно: Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силою собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первою, Русь – взглянули Буслаев, Тихонравов и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого знания».