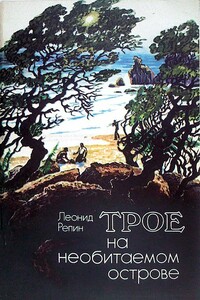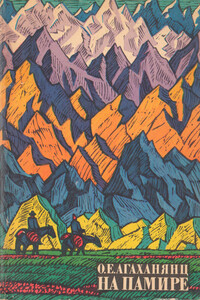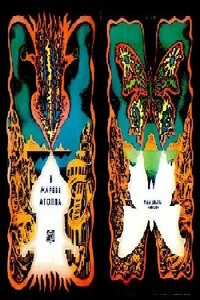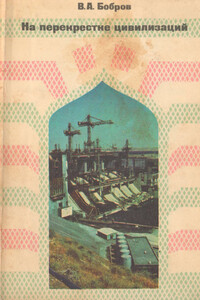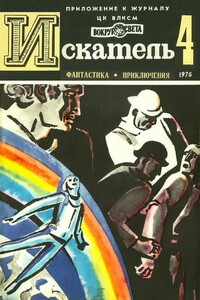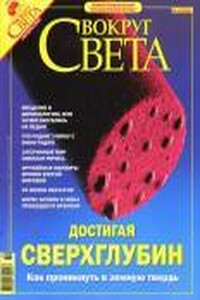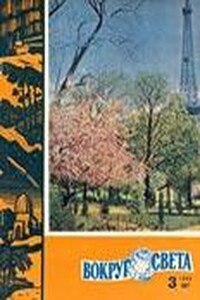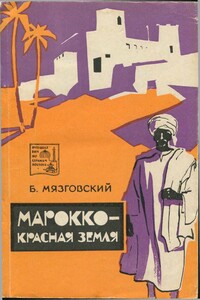Путешествие в страну миражей | страница 80
Удивительно стремление людей к пассивной созерцательности. Что это? Отголосок древнего инстинкта выжидания или, наоборот, такое же инстинктивное желание торопить события, пытаться предвидеть будущие знания? Или своеобразная психологическая энтропия — стремление к покою в этой беспокойной, вечно меняющейся жизни?
Теперь нам кажутся смешными наивные верования столетней давности. Но идут годы, и мы не перестаем удивляться сложности солнечно-земных связей. Порой и мы тоже начинаем верить, что не только Земля как планета — каждый из нас, людей, каждая ветка на дереве или травинка в поле, каждая рыба в море и птица в небе — все на привязи у его величества Солнца.
Прежде думали, что Солнце только притягивает нашу планету да согревает ее, теперь говорят о глобальном характере солнечно-земных связей, о радиационном, магнитном, электрическом воздействии светила. Теперь ни один уважающий себя ученый не решится назвать жизненное явление, совершенно не зависимое от деятельности Солнца. Примеры о цикличности размножения саранчи, водяной полевки или ядовитого паука каракурта стали хрестоматийными. Никто уже не спорит о зависимости от солнечной активности цен на пшеницу или на лисьи шкурки. Все соглашаются, что от этого зависит и прирост древесины, и уровень воды в реках, и число автомобильных катастроф. Но оказывается, даже сама кровь каждого из нас живет в унисон с цикличностью Солнца. С состоянием светила прямо связано наше состояние гомеостазиса — равновесия с окружающей средой. Солнце — и свертываемость крови или количество в ней лейкоцитов. Солнце — и возбудимость нашей нервной системы. Солнце — и целебная активность лекарств… Этот список, несомненно, будет пополняться. До каких пор, никто сказать не может. Специалисты гелиобиологии пока что разводят руками, когда их спрашивают о пределах нашей зависимости от Солнца. Им почти совсем не известен механизм солнечно-земных связей…
В этой поучительной беседе-дискуссии, как тогда в Москве, перед отъездом, я снова получил возможность поразмышлять о едином цикле звезд, в унисон которому качаются жизненные циклы и человека, и ничтожной травинки, и снова задать себе грустный вопрос: существует ли вообще Земля как самостоятельная счастливейшая из планет? Не правильнее ли говорить о неком едином организме — Солнечной системе, в котором каким-то образом отражаются на нас даже марсианские пыльные бури?
Но с академиком можно ли спорить? Наступил момент, когда ручеек моих знаний растворился в море сведений о Солнце, которыми располагал Баум. И тогда мне пришлось удовлетвориться ролью студента, терпеливо конспектирующего лекцию.