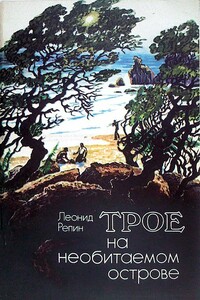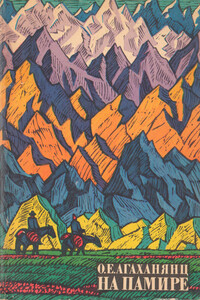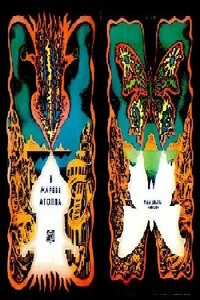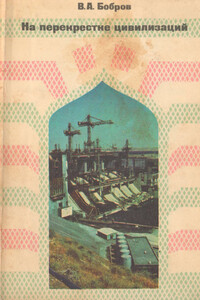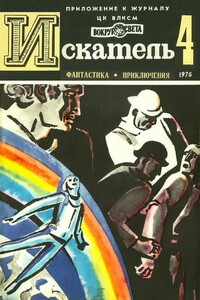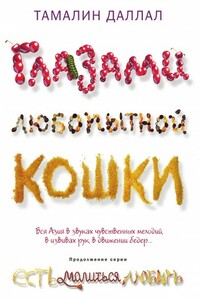Путешествие в страну миражей | страница 117
Впервые об этом городе мир услышал сто лет назад. Тогда колонна русских войск под командованием генерала Ломакина, двигавшаяся к границе Ирана, остановилась в местечке со странным для безводной пустыни названием Бугдайлы — «Пшеничное». Но еще больше удивились русские офицеры, когда в тридцати шести верстах от Бугдайлы увидели целый город с двойным рядом оборонительных стен, с величественными минаретами и яркой небесной глазурью на высоком портале мечети. А вокруг, пересекая белесые солончаки и выжженные мертвые степи, змеились оплывшие остатки древних дувалов и каналов оросительной сети.
Мировую прессу залихорадили сенсационные сообщения о загадочном мертвом городе в пустыне. Думается, что читать о нем в то время было не менее волнующе, чем теперь о таинственных гигантских рисунках в пустыне Наска. Кто построил город в безводной степи? Почему жители покинули его?.. Ответ был найден историками довольно быстро: виновато монгольское нашествие, уничтожившее оазисы, разрушившее систему ирригации. Но те же историки подкинули и сомнение: нашествия, какими бы разорительными они ни были, обычно не уничтожали стремления людей восстановить разрушенное. Так было в Хорезме и в Мерве, возродившихся заново. Почему этого не произошло в Дахистане?
— Произошло, — сказали впоследствии археологи, раскопавшие остатки процветавшей жизни, относившейся к XIII и XIV векам.
Так почему же оазис умер? Ответ я нашел в статье кандидата географических наук Г. Н. Лисициной, опубликованной в журнале «Природа». Она прямо связывала гибель оазиса с обезлесением Копетдага, откуда в эту пустыню бежит Сумбар.
Бродя по пыльной щебенке Мешеди-Мисриана, я вспоминал и эту статью, и свои дороги по Копетдагу, и напрасно рылся в своей памяти: видел ли в горах большие леса? Нет, не видел. Каньон, вырытый Сумбаром, вспоминался голым, живописным не зеленью растительности, а угрюмыми и мрачными скалами. И вспоминались мои восторги от тех диких красот, и я уже недоумевал, как можно было восхищаться видами гибели живой природы. Убеждал себя: красота безотносительна, и на совершенно мертвой Луне человек будет любоваться невиданными ландшафтами. По привычке утешался верой в разум и всемогущество человека, который наверняка опомнится-таки, вернет природе ее первозданную красу, ее способность не истощаться.
Леса в Копетдаге вырубались во все века, но особенно, как уверяет Г. Н. Лисицина, в 20-х годах нашего столетия, когда это приняло катастрофические размеры и привело к быстрому иссушению горных склонов. Топор дровосека, отлично справившись со своей задачей, передал эстафету овцам, естественно не отличающим слабые росточки будущих великанов-деревьев от обыкновенной травы. Остановить бы отары на горных тропах или пустить ровно столько, сколько выдерживают определенные пастбища, задержать бы человека, идущего в горы с топором, другими словами, создать бы заповедник в Копетдаге, о чем, кстати говоря, не раз поднимался вопрос и в местной, и в центральной прессе. И я не раз задавал этот вопрос, путешествуя по Юго-Западной Туркмении. И каждый раз слышал встречный вопрос: чем кормить растущее поголовье овец, чем топить печи в домах? И, усвоив истину, что на вопрос легче всего отвечать вопросом, в свою очередь спрашивал: чем будут кормить овец и топить печи завтра, когда в горах не останется и той растительности, которая еще уцелела?