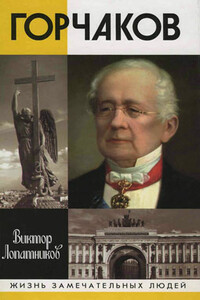Даниил Гранин. Хранитель времени | страница 9
Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых дорогах».
Д. Гранин. Автобиография
«На следующий год семья переехала в другой леспромхоз. Там были тоже лесозавод, лесная биржа, но не такая глушь. Жили на полустанке Кневицы, кажется, километрах в сорока от Старой Руссы. Возможно, на переезде настояла мать. Она все больше тяготилась сельским захолустьем. Ее тянуло в город. Каждый вечер, в восемь часов, загодя, она отправлялась на перрон к питерскому поезду. Приходил туда весь «высший свет» поселка: учитель, фельдшер, бухгалтер лесозавода, почтарь, являлись с женами, приодетые, особенно по воскресеньям, гуляли по высокой дощатой платформе, постукивая каблучками. Гармонист играл. Молодые пели. Выходил начальник разъезда в фуражке, милиционер в белой гимнастерке. Курили, общались, новости местные обсуждали. Нечто вроде клуба. Как позже на курорте старорусском, где ходили по галерее, попивая целебную водичку, здесь вместо водички лущили семечки подсолнечные, тыквенные. Иногда угощали друг друга монпансье из желтых круглых баночек.
Приближался поезд. Стоял он минуту. Редко кто приезжал или уезжал. Скидывали мешок с почтой, посылками. Пассажиры глядели на местных, те на них. За зеркальными окнами вагонов стояли бутылки вина, кто-то, лежа, с верхней полки лениво обегал глазами эту туземную публику, были вагоны мягкие, там висели бархатные занавески, люди смотрели оттуда безулыбчиво, строго. Короткий гудок, и поезд трогался. Глядели ему вслед, пока красные глазки последнего вагона не исчезали вдали. Расходились притихшие.
Почему-то думается, что эти поезда волновали мать. Звали ее куда-то».
Д. Гранин. Всё было не совсем так
«Приехав в Кневицы, я не нашел ни нашего дома, ни домов соседей. Война все снесла, мир все отстроил заново. Было одно дерево, по расположению оно, казалось мне, вроде бы то, что стояло перед нашим домом. Да и относительно железной дороги вроде бы оно, если считать, что пути железнодорожные не переносили. Но уж больно оно разлапистое, раскоряченное. Может, конечно, внутри этой старой липы есть то молодое деревцо, что стояло под нашими окнами, так разве узнаешь. Так и Кневицы. Они внутри меня хранятся, круги детства, как годовые кольца. У дерева оно всегда внутри, его прошлое, оно составляет ствол, новое нарастает вокруг, а того, молодого, никак не увидеть. И мне теперь тоже не увидеть этих милых Кневиц, где прошло детство, не увидеть полустанка, дощатой платформы, чайной…»