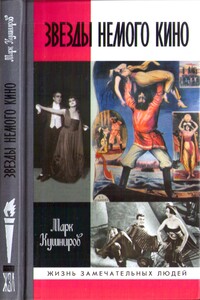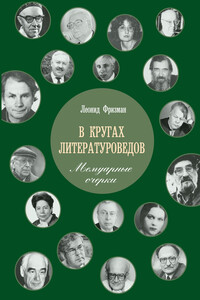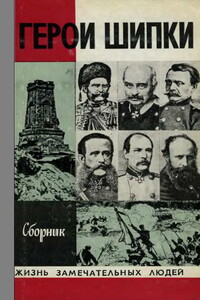Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 6
Справедливости ради замечу, что ругательный смысл этому термину придал вовсе не Сталин, а любимый интеллигенцией Луначарский еще в начале двадцатых. Да и сам Мейерхольд был не без греха по этой части: к примеру, в известном сборнике «Театральный Октябрь», где он был «хозяином» маленькой редколлегии, в панегирической статье о нем (похоже, продиктованной им самим) говорится о «запутавшихся в бесплодном формализме А. Я. Таирове, Ф. Ф. Комиссаржевском и… Максе Рейнхардте». Тогда этот «ведческий» термин не выглядел таким уж страшным. Борьба с формализмом была «всего лишь» борьбой с безыдейностью, с хитроумной двусмысленностью, с лукавыми и подозрительными намеками. Она отнюдь не ратовала за примитивную однозначность формы, а выступала лишь за ее простую, здоровую общедоступность. За ее логичность и понятность — но ни в коем разе за ее элементарность, плакатную примитивность, дорогую сердцу партийных критиков. Рассуждая о формализме, он не подозревал, что дает в руки этим критикам дубину, которая очень скоро обрушится на его же голову.
Продолжая разоблачать себя, он открыто исповедовал один из главных своих духовных принципов, о котором писал еще в 1907 году, опираясь на скользкие авторитеты Шопенгауэра, Толстого и Вольтера: «Произведение искусства может влиять только посредством фантазии. Поэтому оно должно постоянно будить ее», — но именно будить, а не «оставлять в бездействии», стараясь все показать. «Будить фантазию, — продолжает он, — необходимое условие эстетического действия, а также основной закон изящных искусств. Отсюда следует, что художественное произведение должно не всё давать нашим чувствам, но как раз столько, чтобы направить фантазию на истинный путь, предоставив ей последнее слово… Можно недосказать многого, зритель сам доскажет, и тогда вследствие этого в нем еще усилится иллюзия, но сказать лишнее — все равно, что, толкнув, рассыпать составленную из кусочков статую или вынуть лампу из волшебного фонаря… И когда фантазия зрителя не будет усыпляема, она будет, наоборот, изощряться».
Значит, последнее слово за фантазией? За изощренным обманом?! Кому же не ясно, что этот бред в корне противоречит методу социалистического реализма? Что он пахнет крамолой? Что он протаскивает (еще одно модное словечко тех лет) в советскую культуру чуждые ей, фактически вражеские принципы? А значит, и сам Мейерхольд — притаившийся враг?
Но судьбоносный момент для открытого обвинения настал не сразу. Власть как будто даже колебалась, играла в объективность. Одной рукой защищала Мейерхольда, другой — поощряла его задорную травлю со стороны новоявленных «книжников и фарисеев» — всяких РАППов и РАПМов… Это были первые, так сказать, «пробы пера». Потом настали 1926–1928 годы, первый кризис ТИМа, первый сигнал опасности. Нет ударного спектакля. Нет передовой пьесы. Осуществленные постановки, даже те, что более или менее успешны (о них мы еще расскажем), особых сенсаций не делают — ни у зрительской массы, ни у кадровой номенклатуры. Разве что «Лес», «Клоп», «Мандат», «Ревизор» выглядят яркими вспышками на сером фоне — и именно на них обрушивается огонь рапповской критики, нарастающий с каждым новым спектаклем.