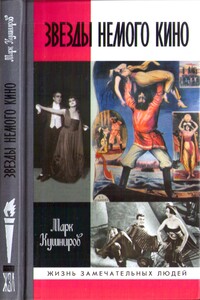Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 46
Не уступает этому описанию и восторженная реплика Мейерхольда спустя более чем тридцать лет, на репетиции «Бориса Годунова» 28 ноября 1936 года: «Ошеломляющее впечатление! Никогда в жизни я не видал такой правды жизни на сцене… Не было театра, не было сцены, рампы, суфлерской будки, не было актеров…»
О спектакле писали, спорили, своим совершенством он победил даже «Царя Федора». Сам Мейерхольд, по свидетельству Волкова, расценил спектакль как второй лик театра — «театр настроения». «Его пленяла недоговоренность постановки, ее способность будить фантазию, то есть то, что он вслед за Шопенгауэром считал функцией произведений искусства».
Другой биограф, Александр Гладков, записал еще одно интересное высказывание Мейерхольда о спектакле: «Вы спрашиваете, был ли натурализм в «Чайке» Художественного театра, и думаете, что задали мне коварный вопрос, потому что я отрицаю натурализм, а там с трепетом играл свою любимую роль? Должно быть, отдельные элементы натурализма и были, но это неважно. Главное, там был поэтический нерв, скрытая поэзия чеховской прозы, ставшая благодаря гениальной режиссуре Станиславского театром. До Станиславского в Чехове играли только сюжет, но забывали, что у него в пьесах шум дождя за окном, стук сорвавшейся бадьи, раннее утро за ставнями, туман над озером неразрывно (как до того только в прозе) связаны с поступками людей. Это было тогда открытием, а «натурализм» появился, когда это стало штампом. А штампы плохи любые: и натуралистические, и «мейерхольдовские».
Чехов видел спектакль, и больше всего ему глянулся именно Мейерхольд — своей точностью, своей интеллигентностью. Меньше понравился Станиславский-Тригорин и вовсе не понравилась Роксанова — Нина Заречная. Но я не торопился бы считать мнение Чехова «божьим гласом». Похоже, Роксанова действительно играла неважно — переволновалась, а кроме того, имелся еще один нюанс, сработавший против нее. Спектакль «Чайка», как известно, провалился в Петербурге по всем статьям… кроме одной. Вера Комиссаржевская, великая актриса, в роли Нины была превосходна и восхитила Чехова раз и навсегда. Переиграть ее было невозможно.