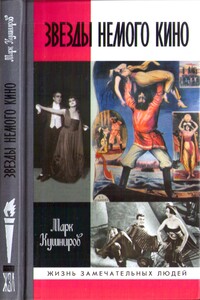Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 32
Вопреки первым впечатлениям столица раздвигала кругозор начинающего актера буквально на глазах. Что-то после забывалось, что-то навсегда оседало в его памяти — воистину безмерной. Без сомнения, там теснилось много интересных и полезных воспоминаний об этом «московском» времени.
Учениц в драматическом классе Немировича было больше, чем учеников, — что обеспечило Мейерхольду желанную загруженность работой над отрывками. Он прошел как минимум через двадцать разнообразных ролей — от Паратова и Органа до Бомелия и Тихона. Роль лекаря Бомелия в «Царской невесте» Мея была удостоена хвалебной рецензии в обзоре «Театральных известий»: «Мы даже не узнали того резкого и однотонного голоса, который неприятно поразил нас в других ролях, сыгранных г. Мейерхольдом… Эта роль является у г. Мейерхольда лучшей из всех виденных нами». (Демонстрация отрывков всегда проходила на публике, среди которой непременно присутствовали журналисты театральных изданий.)
В Малый театр ученики филармонии имели право приходить на все генеральные репетиции (происходившие обычно днем). Эти репетиции давали возможность изучать манеру игры целого ряда блестящих мастеров и одновременно убеждаться в полнейшей деградации русской драматургии. Тогда репертуар Императорских театров — в том числе Малого — держал курс на русскую драму, то есть был плотно осажден ныне забытыми эпигонами Островского: Потехиным, Аверкиевым, Крыловым, Шпажинским и прочими, еще более беспомощными дра-моделами.
Кроме театра наш герой постоянно посещал симфонические концерты, которые устраивало Филармоническое общество — туда также могли свободно ходить ученики Немировича. Здесь он знакомится с избранным кругом дирижеров, исполнителей и композиторов, многим из которых в недалеком будущем предстояло стать едва ли не классиками. Здесь же совершилось для него настоящее открытие Вагнера, который будет впоследствии так много значить в его режиссерских исканиях.
На какое-то время он пристрастился к посещению Третьяковской галереи, тогда еще не имевшей отдельного здания с эффектным «а-ля-русским» фасадом. Жанровый натурализм ему не близок, хотя Федотов и отдельные типажные картины его забавляли (о чем он писал жене), а иные портреты четко западали в память. Зато он подолгу стоял у исторических полотен Репина, Литовченко, Шварца. Детально изучал их трактовку минувших эпох, особенно эпохи Грозного, словно предвидел скорую встречу со своими первыми сценическими персонажами.