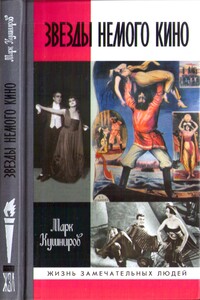Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 19
Наследником театрального дела стал к тому времени сын Горсткина Лев Иванович — человек незаурядный, книгочей и театрал, вхожий в дом Мейергольдов. Он стал приглашать на гастроли известных артистов — некоторые из них оставили ярчайший след в русском театре: виртуозный перевоплотитель Василий Давыдов, молодой трагик Николай Россов, прославленный гастролер Василий Андреев-Бурлак, Александр Ленский, Иван Киселевский… Все они зажигательно впечатляли юношу Мейергольда. Впоследствии на своих репетициях он часто вспоминал их — вспоминал бегло, эскизно, но всегда неповторимо ярко. У всех у них он будет мысленно учиться, а Россов со своей прекрасной, но, увы, скоро вышедшей из моды пафосной манерой даже сам через десяток лет напросится к нему в труппу.
Да, Пенза была колоритным местом. Здесь можно было жить и художественно формироваться, но, увы, формирование это, как и положено в российской глухомани, имело нескрываемо негативный оттенок. И обойти его никак нельзя, ибо легко догадаться, что раздраженный, самозабвенный уход Мейерхольда в мир театра, в мир искусства — в сущности, бегство — был спровоцирован не только атмосферой семьи, ее обид и неприятностей. Он был рожден с душой бунтаря-революционера, ненавистника духовной и физической грязи. Ненавистника «Загона», как Николай Лесков называл в одноименном очерке русскую провинцию: «В этой Пензе, представлявшей одно из самых темных отделений Загона, люди дошли до того, что хотели учредить у себя все навыворот: улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним никто не отваживался ходить. Тротуары были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он находил смерть».
Вряд ли такое было абсолютно везде. Но было и терпелось.
В городе тогда проживало около ста пятидесяти тысяч жителей. Из них полтысячи (или чуть больше) можно было считать местной интеллигенцией. Они-то в основном и составляли зрительскую массу: чиновники, солидные купцы, недавние крепостники-помещики со всеми их родичами. Здесь же, бесспорно, разночинные учителя, доктора, аптекари, инженеры, умельцы-механики, питомцы землемерного и железнодорожного училищ, ссыльные интеллигенты (в основном поляки), члены лютеранской общины. Сюда же причислим — с натяжкой — три-четыре сотни так называемых полуинтеллигентных обывателей: мелких торговцев, приказчиков, фельдшеров, мастеровых. Не забудем и служителей культа — в городе было четыре вероисповедания: православие, католицизм, мусульманство (татарский след) и лютеранство.