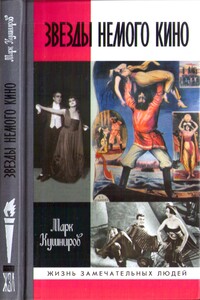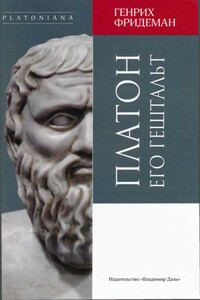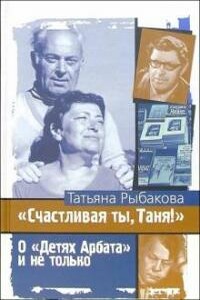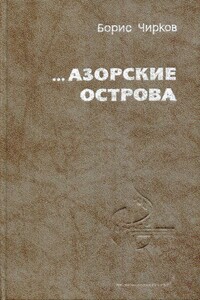Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 14
Он готовился к выступлению, но подготовился плохо. Я понимаю, что в его положении и состоянии извинительны любые огрехи, что задним умом мы все крепки, но все же горько и досадно, что он позволил себе так оторопеть и поддаться неуклюжему стремлению к компромиссу. Не смог, не захотел сообразить, что его актерский, режиссерский и человеческий арсенал был бы куда уместнее для выражения двух крайностей: или бросить в лицо театральному судилищу решительный, «облитый горечью и злостью» отказ от признания своих грехов и просчетов, или наоборот — разыграв полнейшую сдачу на милость, говорить только о своих зловредных ошибках, о своем гнилом, прозападном, антисоветском формализме. Отказаться от всех амбициозных проектов, вроде «Бориса Годунова» или восстановления «Маскарада» в Александринке, поминутно давать обещания очиститься и вернуться обновленным в лоно соцреализма (это был бы последний, хотя и очень слабый шанс на спасение). Как сказал Козьма Прутков: «И великие люди иногда недогадливы бывали». Но как же тянет иной раз помахать после драки кулаками!
Не стану подробно цитировать его последнее — предсмертное — слово. Он начал его с пространной благодарности «вождю, учителю и другу трудящихся всего мира». Восторженно выразил признательность партии и правительству, а более всего Сталину за великое и мудрое решение дать возможность ему, Мейерхольду (а заодно Шостаковичу и Эйзенштейну) в труде исправлять свои ошибки.
Далее он переходит к ошибкам. И тут воистину начинается полный «сумбур вместо музыки». Первым грехом оказалось то, что «лабораторные опыты», какими с натяжкой можно было считать и «Лес», и «Ревизора», не надо было показывать широкому зрителю — «лишь тесному кругу актеров и режиссеров». Именно эта ошибка, по мнению Мейерхольда, и спровоцировала отвратительного и подражательного «Гамлета» в театре Вахтангова, а следом и закрытие ТИМа. Разумеется, последнее деяние он признает совершенно правильным.
(О бесчисленных «лабораторных опытах» Мейерхольда, почти всегда — и вполне резонно! — превращавшихся в очередные спектакли, разговор отдельный. Замечу только, что иначе быть и не могло. Многие из этих «опытов», естественно, требовали полноценного зала, требовали публики, а не тесного учебного круга.)
Затем, сдержанно пожурив свои конструктивистские «грехи» и увлечение классиками (за которое, по его мнению, он не несет прямой ответственности), он вдруг начинает обвинять «целый ряд спектаклей, который и сегодня протаскивает контрабанду формализма». (Обвинение веское — «целый ряд!») На просьбу зала назвать эти спектакли Мейерхольд называет два редкостно удачных, остроумных, высокоинтеллигентных спектакля, сразу вошедших в анналы театральной истории: «Валенсианскую вдову» Николая Акимова и «Принцессу Турандот» Вахтангова. Он словно забыл, что еще недавно сам расхваливал «Турандот». Только полной растерянностью (или издевкой) можно объяснить это внезапное обличение — ведь неделю назад, в очередной раз выступая против «мейерхольдовщины» (то есть формализма), он обличал другие, более подходящие спектакли: «Лестницу славы» в Театре Революции, «Мольера» в МХАТе, шекспировские постановки Сергея Радлова.