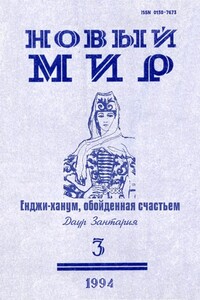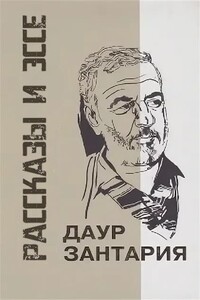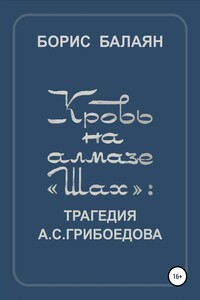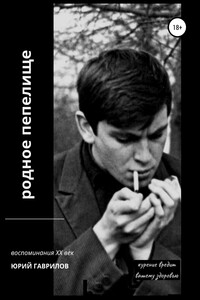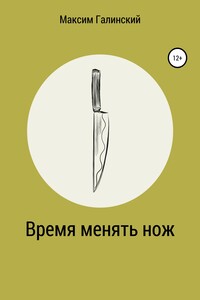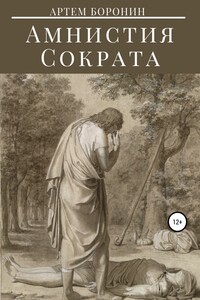Судьба Чу-Якуба | страница 8
Таким образом, в течение какого-нибудь часа Мехмет-Али стал самым могущественным и богатым египтянином. Он вознамерился потягаться силой с самой Портой. Свободный от косности в военных делах, он строил армию и флот по европейскому образцу. Боевые корабли Египта вышли в море. Мехмет-Али трижды наголову разбил турецкую армию. Только вмешательство России, не желавшей иметь у южных рубежей сильный Египет вместо слабеющей Турции, спасло Стамбул от падения, и Мехмет-Али до конца так и звался наместником султана в Египте.
В 1831 году Мехмет-Али призвал врагов Турции встать под его знамя. И очень скоро среди его военачальников снова появились горцы Кавказа.
В Сирии армия Мехмета-Али, которой командовал его сын, потому что полководец к этому времени уже был немолод, попала в окружение. У солдат истощились запасы муки. Но тут один из воинов изготовил жернова и показал кавказский способ пользования ручной мельницей. Арабы дружно убрали пшеницу и намололи муки, ибо армия была окружена не где-либо, а на полях зрелой пшеницы. Получив муку, армия насытилась, ожила и вырвалась из окружения.
Юноша этот был, как вы, вероятно, догадались по логике повествования, убых Чу-Якуб.
Я начинаю чувствовать, что история, которую я рассказываю, и без Египта может показаться неправдоподобной некоторым читателям. Хотя любой человек, которому приходилось рыться в скупых рапортах офицеров и чиновников, служивших на Кавказе в период расцвета джигитства, может подтвердить, что подобные судьбы были тогда почти повсеместны. Но между тем временем с его правдивыми летописцами и нашим лежит гора бульварной и героико-приключенческой ерунды, и поэтому, хоть и не хочется сходить с пути спокойного повествования, придется пойти на уступку маловерам и подтвердить свой сюжет строгим документом. Мне доставляет больше удовольствия скрещивать документ с народной молвой, чем просто излагать вымышленные истории.
Однажды в руки мне попал очерк об убыхах, принадлежащий перу известного французского мифолога и лингвиста, знатока кавказских языков Жоржа Дюмезиля. В очерке я встретил имя, уже известное мне по преданию, которое я когда-то записал и с которого и начну это отступление.
Предание рассказывает о происхождении клича «чыу!», или «чоу!». До махаджирства, рассказывали мне, в Убыхии был род Чу. Род этот крестьянский, однако с ним должны были считаться даже самые знатные.
Когда убыхи отправлялись на войну и все уже стояли в конном строю, Чу, по обыкновению, опаздывал и приходил последним. Он занимал свое место, предводитель давал знак, что прибыл Чу и можно трогаться, и тогда по рядам пробегало короткое и быстрое «чу». Даже боевые кони стали воспринимать этот звук как сигнал трогаться. Так появилось междометие «чу», с которым до сей поры джигиты пускают своих коней вскачь.