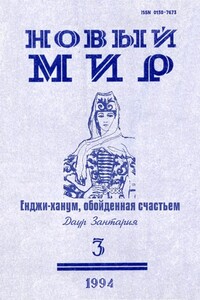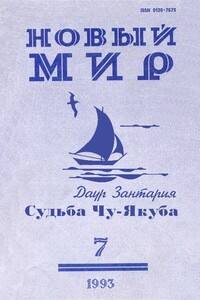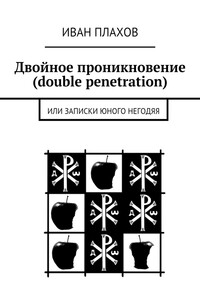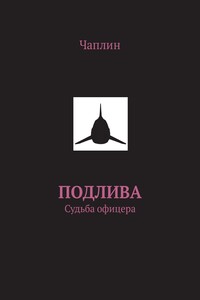Рассказы и эссе | страница 90
Новое поколение уже не может понять, что наши детство и юность проходили под пристальным вниманием государства и общества. Каждый должен был учиться, а выучившись, работать на благо общества. Кто не работал, тот не только не ел, но и получал срок за тунеядство. Обществу зачастую помогали родители, заставляя носить пионерский галстук, учить ненавистную химию и стричься полубоксом. И как легенду слышали мы в детстве о том, что живет в Афоне Гиви Смыр. Однажды он ушел из школы и больше не стал учиться. Занимаясь самообразованием, он усваивает только то, что ему нужно. Нигде не работает, уходит на несколько месяцев в горы, где питается невесть чем. Затем появляется, таща на спине огромный камень. Побудет дома (чуть не сказал: в долине) недолго — и снова по горным тропам. Облюбует в горах камень, присядет к нему и начинает его тесать, придавая камню причудливую скульптурную форму. При этом вовсе не заботясь о том, что камень лежит в таком месте, откуда его транспортировать вниз невозможно. Он творил из года в год, даже не предполагая зрителя в общепринятом смысле. А может быть, горы и леса действительно населены теми существами, которых он изображает на своих каменных изваяниях? Может быть, они и есть судьи его творчества? И то, что кому-то удавалось быть свободным в несвободном обществе, делало и нас чуточку свободнее. Хиппи на Западе появились позже. Но это было целое движение, а Гиви был один. Как же ему это удавалось?
Думаю, что два счастливых обстоятельства способствовали тому, что власть так и не посягнула всерьез на его свободу.
Первое — это пещера, которую обнаружил Гиви Смыр. Она была оборудована государством по последнему слову техники. Всесоюзная стройка. Специальные вагоны привозили по тоннелю туристов в залы пещеры, эффектно освещенной, музицировавшей. Пещеру посмотрели миллионы людей, она принесла государству миллиардные доходы. Надо ли говорить, что сам первооткрыватель не получил от этого ни гроша. Так что юношу, который сам никакими официальными благами не пользовался, трудно было упрекнуть в том, что он не принес пользы народу.
Второй момент может показаться странным, но в нашем южном краю, где общественный вклад всегда являл собой причудливый синтез патриархального с советским, его нельзя было сбросить со счетов. Это то, что он происходил из рода древнего, чтимого в народе не столько за знатность, сколько за дела. (Вся Абхазия поет песню о Гудисе Смыре, горном охотнике. И прежде, и ныне охотники, отправляясь в горы на тура, приносят жертву охотничьему божеству Ажейпшу, чтобы он даровал им ту дичь, которую уже съел и затем чудесным образом оживил. А Гудиса Смыр отправлялся на охоту со словами: «Еще как дашь мне добычу, глухой!» Глухим Ажейпша называли из-за его обыкновения давать счастье не поочередно всем охотящимся, а всегда одним и тем же. Так что Гиви, потомок Гудисы, прошел по всем тропам своего предка, и при этом никогда не брал в руки оружия.) Короче, власти предпочитали не ссориться с его родом, родом Смыров, только потому, что сам он нигде не работает. Тем более что Гиви ни на что не претендовал. Такова была специфика советской власти на Кавказе.