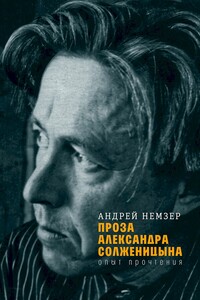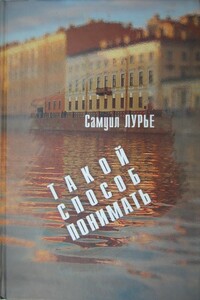Химеры | страница 28
И сразу отвешивает ему грубое ругательство.
Теперь вмешательство Меркуцио – да кого бы то ни было – просто невозможно.
Ответить Тибальту должен Ромео – и только ударом, либо он опозорен навсегда.
А он не понимает. Не врубается в ситуацию. Вчерашнего инцидента не заметил. Письма с вызовом не получал. И вообще – счастлив. Полночи объяснялся в любви, полчаса назад женился, и скоро опять ночь, и есть один такой балкон, на котором лежит, свернутая в кольцо, веревочная лестница, – короче, оставьте его в покое, он вас всех обожает, – да, и тебя, новый родственник, милый двоюродный шурин, не лай, пожалуйста, не лай, скоро все поймешь, и все поймут, а сейчас некогда, некогда, всем пока-пока и общий привет.
И порывается уйти. Чуть ли не убежать. Под свист и злобный смех ватаги Тибальта. Приветливо улыбаясь. Как жалкий трус.
Какую-нибудь минуту назад вы любили человека. Готовы были отдать за него свою жизнь. А теперь вам тяжело на него взглянуть. Совестно и противно. Потому что это не он, а зачем-то разыгравший вас незнакомец с актерским дарованием. И, значит, никого вы не любили, потому что тот, про кого вы думали, что любите его, – не существовал. Тот, кого презираешь, – не существует. Спокойно уйти и спокойно напиться с безмолвным Бенволио.
А он кричит, Меркуцио кричит:
(Обнажает шпагу.)
Через минуту (или сколько отведет режиссер) все кончено.
Известно из разных текстов (откуда же еще), что бывает тоска, называемая смертной. И смертельная скорбь. Как-то сопряженная с незнакомым никому из живущих чувством одиночества абсолютного.
– Чума на оба ваши дома! Черт возьми! Собака, крыса, мышь, кошка исцарапала человека насмерть!
Жизнь уходит, теряя цвет и ценность. На экране – пустой кусок черно-белой пленки, пляска царапин, фильм 1958 года, из динамиков невозможный голос (Михаила Рыбы) оглушительно ноет невозможные слова (Марка Соболя) на невозможный (Моисея Вайнберга) мотив, – воет из последней глубины советского коллективизма:
История Меркуцио печальна весьма.
Но вот – для сравнения – другая; на вид – почти точно такая же.
Джеймс Крайтон (James Crichton; фамилия пишется также Кричтон, Крихтон, Крейтон; шотландская фонетика загадочна) родился четырьмя годами раньше Шекспира, на несколько градусов севернее, в гораздо более высоком социальном слое; с самого детства удивлял окружающих необыкновенным блеском умственных способностей (не исключаю, что на самом деле лишь одной – памятью), а повзрослев, отличался, говорят, могучим телосложением и красотой лица. Короче, с Шекспиром ни малейшего сходства (и Шекспир тут приплетен мною ни к селу ни к городу), только и общего, что оба – островитяне. К семнадцати годам, то есть в 1577-м, этот любимчик судьбы окончил престижный университет (Св. Эндрю), а вскоре поднялся на борт корабля и отплыл во Францию.