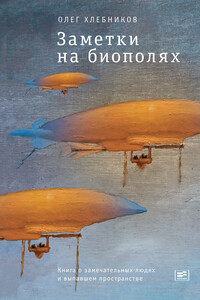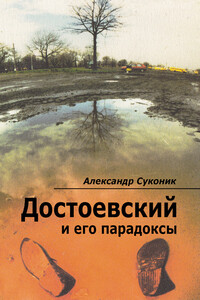Россия и европейский романтический герой | страница 47
Л-н – это ссыльный декабрист, и Хроникер здесь интерпретирует смену времен, как чистый мистик, который ощущает острую разницу между прошлым и настоящим, но для которого даты не имеют значения: между временем декабристов и временем Ставрогина прошло сорок пять лет, а Хроникер говорит так, будто тут прошли столетия. Как бы то ни было, для Хроникера важно одно: когда-то существовали цельные люди, а теперь «нервозная, измученная и раздвоившаяся природа нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений». Об этом же говорит и Кириллов, рассуждая на гамлетовскую тему «быть или не быть»: о том, как несчастлив человек и как ему обрести счастье. Оба, Гамлет и Кириллов, находят самоубийство достойным выходом из несчастливой человеческой ситуации и оба сетуют на страх, который рабски удерживает человека от этого смелого шага. «Умереть, уснуть, быть может увидеть сон… ааа, тут загвоздка: что за сон тогда приснится? – меланхолически муссирует Гамлет. – Но страх того, что после смерти, страны, из которой никто не возвращался… увы, сознание делает всех нас трусами…» Вот и Кириллов в разговоре с Хроникером говорит, что есть два страха самоубийства: маленький – это страх боли и большой – страх того света. «Человек смерти боится, потому что жизнь любит… и так природа велела» – приводит вполне разумное возражение Хроникер, – возражение, которое приведет подавляющее большинство нормальных обычных людей, но, по-видимому, ни Шекспир, ни Достоевский не относятся к этим людям, и потому представитель Шекспира и Достоевского Кириллов взрывается на довод Хроникера: «Это подло, и тут весь обман! Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен».
Это странно: сколько веков произносит со сцены свой монолог Гамлет, и никто не считает его сумасшедшим (хотя он сознательно притворяется таковым по ходу пьесы), а про Кириллова всякий скажет, что он сдвинут. И ведь Гамлет говорит буквально то же – и про «несчастья нашей жизни», и про «плети и презрение угнетателей», и про «боль отвергнутой любви»! Неужели же и здесь работает то самое ироническое доведение предмета разговора до неловкого абсурда, каким Достоевский пользуется, создавая образы Степана Трофимовича и Шатова? Сколько бы ни проклинал несчастливость жизни Гамлет, мы ощущаем, что он произносит свой монолог, находясь в отчаянном состоянии, то есть воспринимаем экстремизм его заявлений не как объективную декларацию абстрактных идей, но как поэтическое выражение субъективного в данный момент состояния его психики. Иными словами, Гамлет написан внутри системы координат Аристотелевой поэтики, мы «узнаем» его состояние, его поведение понятно нам психологически. Но, создавая образ Кириллова, Достоевский вовсе не собирается делать его «похожим», потому что хочет оголить Гамлетову идею во всей ее абсурдной парадоксальности. Конечно же, и Гамлет разговаривает парадоксами, но его парадоксы не шокируют, потому что покрыты искусно изображенной субъективностью его психического состояния, а парадоксы Кириллова ничем искусно не покрыты, и у читателей нет лазейки ускользнуть ни в какое «человеческое» оправдание его речи, кроме одного: что он сумасшедший, что он маньяк. Это и требуется Достоевскому, который задался целью окарикатурить Кириллова, что по сути дела означает – окарикатурить Гамлета.