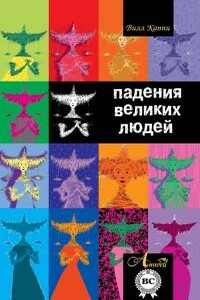Красная звезда и зеленый полумесяц | страница 90
Научившись читать, вчера еще неграмотные массы проявляют неутолимую жажду знаний. До революции, за исключением нескольких джадидских и большевистских газет, которые часто были вынуждены прекращать издаваться, и официального органа колониальной реакции «Туркестанской туземной газеты», туркестанской прессы, как таковой, почти не существовало. Туркмены, каракалпаки, киргизы не имели ни одной собственной газеты. После ликвидации неграмотности очень быстро появляются новые печатные органы. В 1932 году имелось уже 66 различных газет и журналов, из них 36 на местных языках, и рост наименований изданий и тиражей не прекращался. В 1979 году лишь в одной Узбекской республике издавалась 281 республиканская, областная и районная газета, а также 83 различных журнала. Их общий тираж превысил 11 миллионов экземпляров.
Подобный скачок произошел и в книгоиздании. В 1919 году, то есть спустя почти пятьдесят лет после появления в 1868 году первой книги, отпечатанной в Туркестане («Записки о путешествии» Н. А. Северцова), только 37 наименований было издано на узбекском языке, 40 — на казахском и 43 — на таджикском. Ни одной книги не было издано ни на киргизском, ни на туркменском или каракалпакском языках. В 1923 году, всего пять лет спустя после революции, новые издательства, созданные в Казахстане и Средней Азии, выпустили в свет 621 наименование только школьных учебников и других школьных пособий общим тиражом 1 миллион 179 тысяч экземпляров, из которых 200 наименований на узбекском, 151 на киргизском и 29 на туркменском языках.
В прозе, поэзии, театре, музыке возрождается тысячелетняя культура, которая известна теперь не только ограниченному кругу привилегированных. Имена Ибн Сины, Бируни, Улугбека будто вернулись из глубины веков. Узбеки, туркмены, казахи вновь открыли Алишера Навои, таджики — Омара Хаяма, Хафиза и Фирдоуси, киргизы — эпопею «Манас», чьи стихотворные строки, сохраненные в памяти акынов, а теперь записанные, стали всеобщим достоянием. Русский музыковед А. В. Затаевич, очарованный казахской музыкой, месяцами колесит по степи, чтобы собрать старинные мелодии. Он останавливается в деревнях, появляется на рынках, в казармах, на стойбищах кочевников, расспрашивая молодых и старых, записывая песни, которые сохранились у них в памяти и которые они услышали от предков. Он разыскивает последних акынов, которые, аккомпанируя себе на двухструнной домбре, ходят из аула в аул, чтобы пропеть людям поэмы, истоки которых теряются в древности. Несмотря на холод и голод, тиф и холеру, Затаевич спасает от забвения эти частички казахского народного искусства. Опубликованные в 1925 году его «1000 песен киргизского (казахского) народа» станут немеркнущим источником вдохновения для будущих советских композиторов.