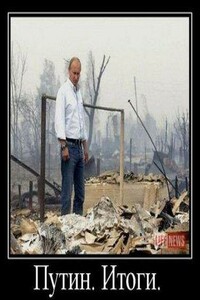Красная звезда и зеленый полумесяц | страница 27
Когда в XIX веке царская Россия решает распространить свое влияние вплоть до границ Средней Азии с Персией, к которым тянется из Индии и британский империализм, она не находит перед собой никакой силы, способной оказать ей серьезное сопротивление.
Застой, а затем исторический упадок региона, так долго находившегося в авангарде человеческого прогресса, ставят несколько вопросов. Как это горнило наиболее блестящих цивилизаций, этот традиционный связующий пункт между Востоком и Западом, благодаря которому Европа познала столь важные изобретения, как шелк, бумага, порох, фарфор, мог дойти до глубокого упадка? Каким образом могущественные государства, которые производили сами и накапливали у себя захваченные у других сказочные богатства, могли настолько захиреть, что в XIX веке уже представляли собой не более чем конгломерат изолированных княжеств, погрязших в нищете и словно застывших в собственном прошлом. Но эти вопросы можно поставить не только в отношении Средней Азии. Они закономерны и для других стран «третьего мира» — с не менее интересными историей и культурой, — расчлененных на стыке XIX и XX веков агрессивной Европой, находившейся в зените капиталистической экспансии и жадно стремившейся обеспечить себе владычество над миром, используя свою материальную и техническую мощь.
Чтобы понять историческую эволюцию бывшего Мавераннахра и соседних с ним стран, рассмотрим некоторые присущие им характерные черты.
Прежде всего следует напомнить о том, с чем люди в Средней Азии столкнулись уже на заре первых цивилизаций — что здесь основы всей жизни, всякого богатства и любого развития зависят от воды. Именно ее наличие или отсутствие определяют процветание или упадок городов и царств. Экономическая история Средней Азии — это прежде всего история изменений, происходивших на ее орошаемых площадях. Последние либо увеличивались благодаря созданию новых водохранилищ и каналов, либо уменьшались. В долгие периоды мирного развития происходило расширение и улучшение ирригационных систем, увеличивались обрабатываемые площади, что способствовало процветанию страны. Но одной-единственной войны или нашествия кочевников оказывалось достаточно, чтобы за несколько лет уничтожить плоды прогресса, накопленные за долгие века, и отвоеванные у пустынь обрабатываемые площади снова покрывались песком. В Средней Азии, где дожди редки, воду нужно обязательно «одомашнить», то есть направить в нужные места, беречь и сохранять с помощью сложнейших сооружений, управление которыми требует четкой и налаженной организации. «На земле, населенной людьми, — писал в 1903 году в парижском «Ревю де сэнтез» географ Поль Видаль де Ла Блаш, — есть места, где окружающая природа в известном смысле лишь терпит человека, который либо пробавляется ненадежной добычей, которую приносит рыбная ловля и охота, либо его существование зависит от просачивания воды через толщу пустыни». Но вдоль рек и там, где труд и знания человека помогли задержать и использовать во благо воду, пустыня преображается в зеленый рай, который восхищает чужеземцев. Как писал один арабский географ, посетивший в X веке долину Зеравшана, «в этой стране Согда можно путешествовать восемь дней подряд, не выходя из чудеснейшего сада: деревни, поля, дающие богатый урожай, плодоносящие сады, пересекающие их в разных направлениях ручьи, сверкающие на солнце водохранилища и каналы являют собой картину изобилия и счастья». Это «изобилие» и «счастье» веками покоятся на владении не землей, а водой и на ее распределении. Когда государство сильно, как это было во времена персидской империи Ахеменидов — в частности, во время правления Дария I (522–486 гг. до н. э.) — или во время правления династии Саманидов и в раннее правление Тимуридов, оно обеспечивает как поддержание, так и расширение ирригационных систем и тем самым процветание региона. Но процветание, не одинаковое для всех: реальное для князей и богачей, которые владеют источниками и орошаемыми землями, и мифическое для тысяч рабов, которые гнут спину, чтобы поддерживать арыки и каналы, находящиеся под постоянной угрозой завала песком. Это процветание сомнительно и для бедных крестьян, задавленных всевозможными налогами. Понятно, что войны и внутренние неурядицы могут гораздо легче и на более длительный срок разрушить такого рода экономический фундамент, чем тот, который установился в других странах, где земля, «орошаемая небом», несмотря на все превратности судьбы, почти сразу же бывает готова для обработки. Здесь же, когда каналы и ирригационные сооружения уничтожены, нужны годы тяжелейшего труда, чтобы восстановить их и вернуть земле ее плодородие.