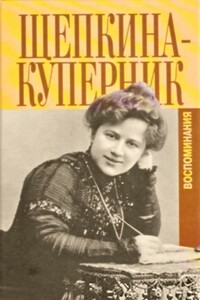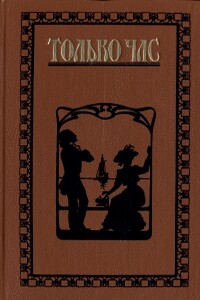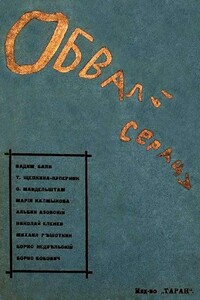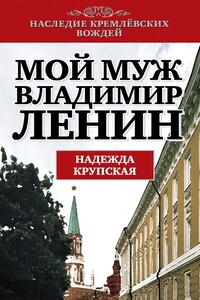Ермолова | страница 75
Она не бежит от воеводы: ей некуда бежать. Она не знает, где муж, и надеется, что он придет когда-нибудь отыскать ее, вернется к разоренному своему гнезду.
Воевода упрекает ее, что «грозными очами» она глядит на него. Действительно, в глазах Ермоловой нет беспомощной ненависти, бессильной злобы, но настоящая гроза собирается в них. Она говорит с ним без истерик, без бесплодных жалоб, скупо. Когда он велит стеречь Олену покрепче, чтобы не сбежала, Ермолова ему с горькой иронией отвечает:
Эти слова Мария Николаевна говорит внешне спокойно, почти эпически, утверждая всю безнадежность своего положения. И только при словах:
у нее вырывается точно рыдание без слез, которого не могла вызвать ни картина опустелого дома, ни разоренной жизни, но властно вызвало представление о любимом, о котором она не знает, жив ли он.
И опять, подавив рыдание, не желая радовать им лютого воеводу, кончает:
В слове «рабой» было не отчаяние, а какое-то зловещее предупреждение. И еще тише Ермолова прибавляет: «Да буду ждать – чем нас господь рассудит». В этих тихих, как бы покорных словах таилась такая угроза, что, когда она уходила, становилось понятным, почему приспешник воеводы словно с каким-то страхом говорит: «Нет зверя злой жены лютее…». А воевода подтверждает как-то смущенно: «Правда…», хотя ни одного злого или грубого слова эта «раба» не сказала.
Во втором акте, когда Олена проникает к полоненной боярышне в терем и сообщает ей вести от милого, Ермолова проявляла всю действенность Олены, ее ум, ее ловкость: она «нароком фату пустила в воду, чтобы допустили – будто повиниться…». Ум ее работает: она забывает свое горе, чтобы помочь подруге по несчастью. Она – вся сочувствие к молодой пленнице. Она из тех, кому свое горе помогает понимать чужое. Эта сцена была прекрасна и по внешнему исполнению. Она кидалась в ноги боярышне и начинала причитать:
Голос ее приобретал звучность и прелесть волжской песни, разливался волною, переходя в таинственный шепот, как только удалялись нянька и ключница, и снова несравненными модуляциями возвращаясь к напевному причитанию: