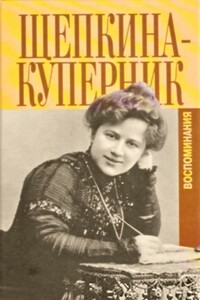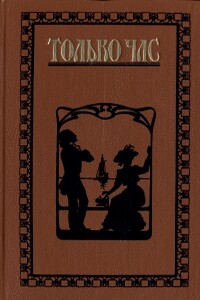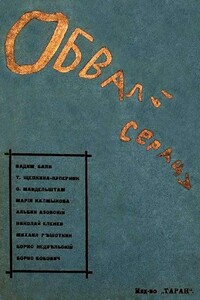Ермолова | страница 72
Между третьим и пятым актами по пьесе проходило шестнадцать лет. И мы видим Гермиону только в конце пьесы. Она почти ничего не говорит – и, однако, эта сцена остается одним из ее прекраснейших достижений.
Скрывавшая Гермиону Паулина ведет Леонта с найденной его дочерью и ее женихом посмотреть статую, изображающую Гермиону. Под звуки музыки раздергивается занавес – и перед притихшими, – как притихала вся зала, – присутствующими открывалась на возвышении фигура Ермоловой в виде статуи. В белых одеждах, с мраморно-белым лицом, как-то особенно освещенная, точно изнутри озаренная алебастровая лампада, – она была изумительно хороша и могла бы служить моделью Фидию или Праксителю. Она стояла недвижно, до иллюзии давая впечатление изваяния. Следовала сцена, во время которой присутствующие выражали изумление перед искусством художника.
Опять ермоловское молчание – и, как всегда в такие минуты, от нее нельзя было оторваться, в данном случае это было созерцание почти совершенной красоты.
Но к концу сцены Леонт говорил Поликсену:
И вот тут происходило то, что зрителям казалось таким же чудом, как Леонту. Ермолова всегда употребляла очень легкий грим, и здесь она была только сильно напудрена. И постепенно, – так она сама волновалась этой прелестной сценой, – лицо ее начинало оживать на глазах зрителей. Розовая краска появлялась на щеках, трепет пробегал по ее чертам, – и когда она по повелению Паулины делала легкое движение и тихо, плавно, точно не касаясь пола, спускалась с пьедестала, не глядя на ступени, а только глядя в глаза Леонта, и обнимала его, а потом наклонялась с благословением к своей дочери, – облегченный вздох вырывался у всех в зале. Сказка была кончена… но надолго оставалось ощущение чуда. Да это и было чудо: чудо настоящего творчества, настоящего искусства, совершенное Ермоловой.
«Воевода». «На пороге к делу». «Последняя жертва». «Невольницы»
Один из новейших биографов Ермоловой, Э. Бескин, выразил мнение, что Ермолова не любила Островского и не играла его пьес так совершенно, как другие роли. Это – недоразумение. Островский, как рассказывала сама Мария Николаевна, бывший горячим поклонником Федотовой, долгое время не давал хода молодой артистке и все лучшие роли, как правило, поручал Федотовой, так что Ермоловой если и приходилось их играть, то только заменяя заболевшую Федотову, как, например, в «Грозе» или в «Бесприданнице», но в конце концов она покорила его своим талантом, и он высоко ценил ее исполнение его ролей. В конечном счете она сыграла восемнадцать ролей в пьесах Островского (из них четыре написанных им в сотрудничестве с Соловьевым), и в некоторых из них была не превзойдена, например в «Талантах и поклонниках», в «Последней жертве». В ранней юности своей она любила «Грозу» и, если судить по отзывам газет, играла ее прекрасно; но с течением лет эта роль стала ей чужда, – она с неудовольствием в день «Грозы» следила за сбором платьев и шалей к вечеру, безрадостно говорила: «Ах… опять «Грозу» играть…» – и, несомненно, душой отошла от переживаний Катерины. Остальные роли Островского, игранные ею, были ей по сердцу.