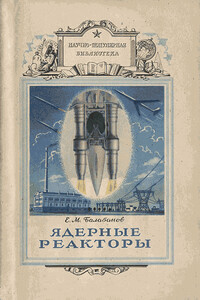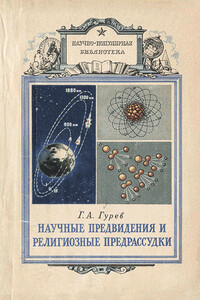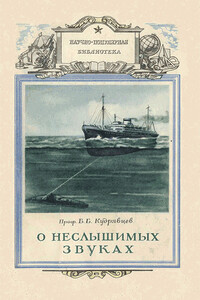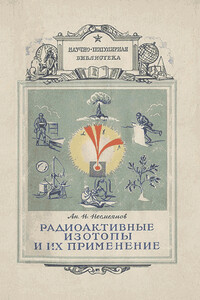Что такое религиозное сектантство | страница 20
В сектантских общинах в области морали на словах проповедуется одно, а делается нередко, особенно главарями сект, совсем другое. Хорошие слова и благие пожелания предназначаются для украшения фасада, для того чтобы ввести в заблуждение доверчивых людей. А в то же время проповедь религиозных заповедей о «христианском человеколюбии» часто прикрывает воровство, спекуляцию, открытый обман и даже преступления. Это лицемерие глубоко развращает многих сектантов и их руководителей, оно лишает их всякой морали, воспитывает у них ханжество и лживость.
Лицемерие сектантской морали, обусловленное ее нежизненностью, проявляется в каждой мелочи. Студенты Одесского политехнического института спросили баптиста Дердиенко: «Что бы ты сделал, если бы на девушку, которую ты любишь, с которой сейчас встречаешься, напали хулиганы и начали издеваться над нею? Вступил бы ты в драку, чтобы защитить ее?» Дердиенко понимал, что ответить на вопрос отрицательно — значит навлечь на себя насмешки и презрение честных людей. Ответить положительно — значит нарушить заповедь о непротивлении злу насилием. Баптист нашел «выход» из этого трудного положения, ответив: «Я бы молился, чтобы бог послал милиционера».
В наших общинах, утверждают баптисты, человек духовно перерождается. Признаками такого перерождения они считают отказ от курения, вина, всяких «мирских» радостей вроде игр, танцев, песен, кино, театра и т. п. Однако настоящее «перерождение» человека, попадающего в секту, заключается в другом. Это можно видеть на примере В. С. Золотухина из села Чермошное.
Белгородской области. Призванный в Советскую Армию, он отказался принимать присягу и брать в руки оружие. На вопрос, почему он остался неграмотным, он с гордостью ответил: «Если я буду много учиться, то не буду понимать бога». Юношу 25 лет сектанты сумели убедить, что только люди темные и неграмотные понимают бога!
В характере и поведении сектанта-фанатика появляется ряд черт, обусловленных отрывом человека от советского коллектива, черт индивидуалиста, себялюбца. Любой свой поступок, всякую встречу с другими людьми, разговор с ними сектант оценивает с одной позиции, обрекающей его на боязнь жизни, подозрительное отношение к людям: а как это скажется на моей будущей судьбе, на моей жизни в царстве божьем? Все другие люди считаются не товарищами, не друзьями, а рассматриваются как средство для личного спасения: «прощая» их, неся им «слово божие», платя им добром за зло, человек якобы может заслужить прощение грехов и блаженство в «царстве божьем».