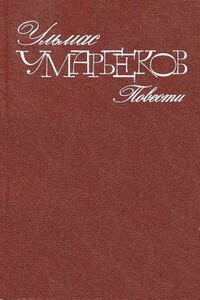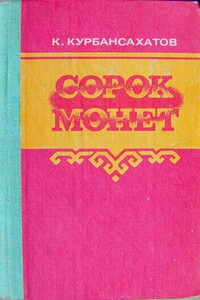Недуг бытия (Хроника дней Евгения Баратынского) | страница 16
Пансион отапливался скаредно. Чтоб не мерзнуть, Евгений спал в теплом белье. Это строжайше воспрещалось, но он исхитрился выворачивать штанины светлой подкладкой наружу, что обманывало подслепого старого педеля. Он задремывал, с головою забившись под одеяло, согреваясь своим дыханьем, воспоминаниями о щедром вяжлинском лете, о родительском доме. Все там представлялось нынче прекрасным: и ласковость дворовых, и шумная бестолковость братьев, и даже важная глупость камердинера Прохора… Но с особенною, с исступленною нежностью воображалось печальное, горделиво вскинутое лицо матери, ее рассеянная улыбка и голос, мелодически льющийся, всегда ровный, тихий.
О тишине, о пристальной женской нежности мечталось ему в ночном дортуаре, полном сонного бормотанья, грубого мальчишеского сопенья и скрипа кроватей. Мать, далекая и тоскующая, представлялась воплощеньем доброты и поэзии.
Однажды ночью, уже под утро, сочинились стихи. Крепко сомкнутые веки загорелись, как это бывало перед слезами; он сжал их еще крепче и прошептал беззвучно:
Он взял карандаш, тетрадку — и вдруг запнулся: хотелось продолжать по-русски, но какая-то робость, стыд какой-то мешали. На языке чужом получалось словно бы не от себя и потому не так страшно.
Он писал, прилежно склонив набок ушастую голову, не замечая иронически блестящих глаз проснувшегося Соймонова. С первым ударом колокола он сунул листок в тумбочку и поспешил в пустую умывальную.
На немецком он, по своему обыкновению, погрузился во французский роман. Усыпительно лопотал что-то добряк Лампе, старенький остзеец, обожавший каламбурить по-русски; прилежно шелестели переворачиваемые учениками страницы.
Вдруг он вздрогнул: смех и шепот слышались вокруг; он явственно расслышал свою фамилию; его толкнули сзади и передали какие-то бумаги, сколотые вместе. Он выхватил свои стихи с пришпиленной к ним карикатурой, изображающей отрока-переростка в девических панталончиках, держащегося за подол томной барыни с развернутым парасолем. "Баратынский с дражайшею маменькой", — прочел он слова, выведенные стрельчатым почерком Соймонова.
Он быстро обернулся: Соймонов пялился на него, широко осклабляя щербатый рот.