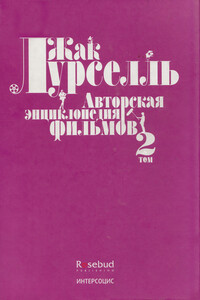Демонический экран | страница 116
Стилизованные остроконечные крыши, черепицы которых складываются в абстрактный линейный рисунок, кажутся последним отзвуком уходящего в прошлое экспрессионизма. Декорации Герльта и Рёрига имеют мало общего с тем настоящим городом, который Мурнау когда-то выбрал в качестве места действия для "Носферату", и напоминают скорее фасады домов в "Големе". Герльт и Рёриг создали свой особый стиль декораций. От игрушечного городка из "Усталой Смерти" не осталось и следа. Пожалуй, площадь, на которой происходит ночная дуэль, лучше всего показывает, на что способны немецкие кинохудожники (в союзе с режиссером и оператором), если их не сдерживают рамки закоснелого экспрессионизма. Здесь уже нет ничего чрезмерного. Тени больше не проглатывают фасады домов, а изысканное освещение придает объемность верхней части массивного средневекового строения и таинственную глубину дверному проему. Именно в таких сценах отчетливо проявляется особый ритм Мурнау, который иностранному зрителю так часто казался медленным и тяжелым. В них чувствуется расплывчатость его указаний оператору; видно, как он проникается каждым ракурсом среди высокохудожественных декораций, как умело он оживляет статичные изображения.
На момент премьеры в 1926 году "Фауст", который сегодня производит такое сильное впечатление, был обременен тяжеловесными промежуточными титрами — книттельферсами[34]. Их автор Герхарт Гауптманн предпринял неудачную попытку сымитировать легкие и изящные стихи "оригинального" "Фауста". Многие критики, которые считали кощунственным по отношению к Гёте уже сам сценарий Ганса Кизера>150, неодобрительно восприняли приторно-сладкую сцену пасхальной прогулки и необычный, очень женственный облик молодого Фауста. Если к тому же вспомнить весьма странный "любовный дуэт" Марты-Иветты Гильбер>151 и Мефистофеля-Яннингса, то становится ясно, почему в то время "Фауст" Мурнау казался нам едва ли не таким же тривиальным, как либретто к опере Гуно.
Сегодня, уже без титров Гауптманна, фильм словно освободился от шлаков, и мы не замечаем приторности за великолепной оркестровкой оптической магии и богатством и разнообразием визуальных образов.
XIX. Пабст и чудо Луизы Брукс
"Ящик Пандоры" (1928). — "Дневник падшей" (1929)
Несмотря на появление звукового кино, я по-прежнему убежден, что сам по себе текст не имеет слишком большого значения в фильме. Что действительно важно, так это впечатление от изображения. Поэтому и сегодня я утверждаю, что кинорежиссер в гораздо большей степени причастен к созданию фильма, чем автор сценария или актеры.