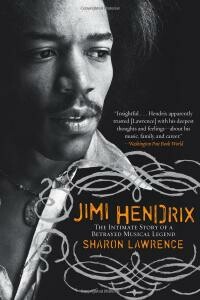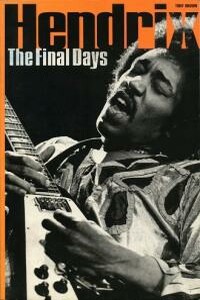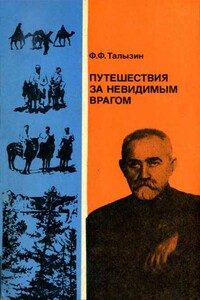Демон абсолюта | страница 7
Чего стоит вся жизнь Шатильона, его брак, его флот, перенесенный цепочкой бесконечных караванов через пустыню, сокровища святых городов, его постыдный верблюд и голова, поседевшая в руке Саладина, перед этим деревом с вечно поющими птицами? Среди видений тоже есть своя аристократия; лишь те из них считались благородными, в которые соглашались вторгнуться сверхъестественные силы. То, что происходило всего лишь между людьми, не было достойно мечты.
Ментальная структура человека Средних веков, с ее двумя границами, чудом и тайной, влекла за собой мир, нестабильный в самой своей сути, где область возможного была бесконечна: «Золотая легенда»[31] здесь не более редкостна, чем «цветники[32]» великих путешественников. Народное представление — только ли народное? — о чуде, о повседневном вмешательстве Бога в дела людей было достаточным, чтобы очень глубоко изменить понятие о человеке, о его отношении к миру и его чувствах. Для нас мир вещей императивен, а мир наших чувств гипотетичен; для Средних веков мир чувства прочен, как кафедральный собор, а в мире вещей нельзя быть уверенным. Все реальное продолжается в чудесное, как всякая жизнь — в рай или в ад, как корни продолжаются в цветы. Поэзия сердца, великие силы мечты не знают иного расцвета. Реальность — это не язык, а кляп. Таким образом, событие, пусть даже наполненное чудесами, — лишь частичка в прахе ничтожества.
Так мыслят еще летописцы, сопровождавшие конквистадоров. Гете, направляясь на аудиенцию, которую давал ему Наполеон, знал, что ступает в историю[33]; но Берналь Диас[34] перед индейцами, которые никогда не видели лошадей и почитали испанских всадников за кентавров, о которых гласили пророчества, Берналь Диас, проходивший через необычайные города, населенные одними педерастами, или прибывший рядом с Кортесом в Мексику; но хроникеры, сопровождавшие Писарро[35], нашедшие среди великих холодов Анд монастырь, где спасались последние девственницы империи, которые покончили с собой и лежали в снегу среди окоченевших трупиков священных попугаев — они как будто пишут туристические заметки. Когда Берналь Диас вспоминает, как его снедала тоска, показательна его манера выражаться. Это было во время «скорбной ночи».[36] Ацтеки отбили ранее взятый город, и маленький испанский отряд был осажден в своем дворце на осушенном болоте рядом с большим храмом. Когда они прибывали сюда, то посетили этот храм. Командиры видели, как ножом из обсидиана вырезали сердца у жертв, распростертых на черном столе. С вершины пирамиды они спускались в глубокие залы, в ужасе перед недвижными жрецами в одеждах из блестящих перьев, не смотревшими на них — они внимали лишь оглушительному шуму жертвенных гонгов. Один из них проводил рукой по косам, свисающим с его плеч, обмакивая пальцы в таз, и испанцы осознали, что прическам жрецов придается мрачный блеск, как на касках, по всей длине их скопческих щек, потому что их волосы склеены кровью. Ничто из того, что видел Диас прежде (а он повидал многое), не потрясло его так.