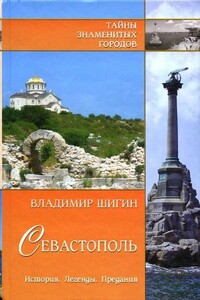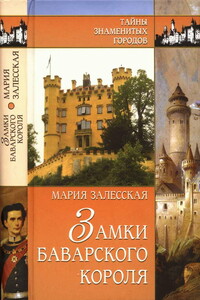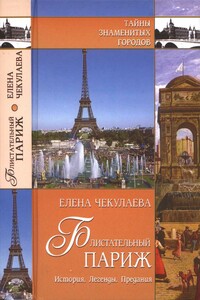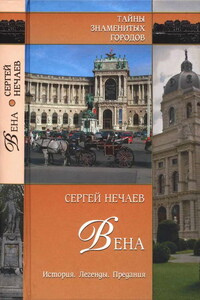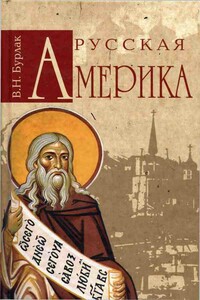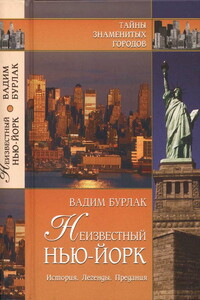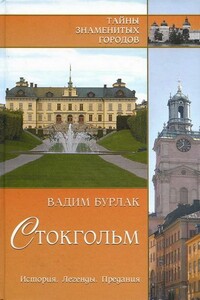Москва подземная. История. Легенды. Предания | страница 168
Но это повеление вызвало взрыв недовольства толпы, а затем начался бунт. Власти вынуждены были применить огнестрельное оружие.
Очевидец тех событий, литератор и архитектор Федор Каржавин, вспоминал о разгоне мятежников: «…пушечным выстрелом погнали их вниз и там их провожали картечами же до самого низу к Яблоневу ряду. Тут разбежались мятежники, которые на Варварку, которые через мост Москворецкий ушли на другую сторону реки. Между тем на другой стороне Кремля, то есть на Моховой, мятежники с ужасными криками бегали и перекликались; однако шум поутих в одиннадцатом часу…»
Пока центр бушевал, у церкви Святых Кира и Иоанна местная юродивая тихо наставляла прихожан, как уберечься от чумы: «В семи шагах от храма разложить костер. Каждому кидать в него по жмени соли, но так, чтобы загасить пламя. А потом вести хоровод вокруг костра и во весь голос петь».
Что-то бесовское узрели в этом наставлении служители церкви Святых Кира и Иоанна. Да разве можно давить на паству, когда вблизи Кремля гремят пушки и ружья?
«Напричитала» юродивая – ей отвечать перед Богом, решили служители храма. Деревянных заборов рядом с церковью полно для костра, а соли на складах вблизи – еще больше.
Сделали все, как говорила юродивая. Всю ночь пляска и песнопение втягивали все новых и новых людей.
Что это было? Беснование? Пир во время чумы? Нет. Пляска и громкое пение заставляли глубже вдыхать пары жженой соли. На следующий день все, кто участвовал в странной мистерии у храма Кира и Иоанна, остались живыми и здоровыми.
Прошло несколько дней, и никто из прихожан этой церкви не заболел.
С годами забылось имя юродивой и ее наставление. А в 1934 году церковь Святых Кира и Иоанна была уничтожена.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что в Левшине. Стрелецкая слобода на западе Москвы получила свое название по фамилии полковника Левшина.
В начале XVIII века на деньги стрельцов там воздвигли церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Долгое время у этого храма не было своего юродивого. Вначале служивый народ не придавал этому значения. Но когда пожар уничтожил почти всю «Левшинскую» слободу, стрельцы призадумались: какой же храм в Первопрестольной без своего юродивого?
Пробовали переманить блаженных от других церквей. Не вышло. У служивых свои понятия, у юродивых – свои.
Тогда задумали стрельцы и вовсе несусветное: воспитать блаженного в своем коллективе. Нашелся доброволец. Заявил сослуживцам: «Год буду бражничать, деньгами сорить, которые вы для меня соберете, а к следующему Покрову одену вериги и стану вещать мысли не от своего разума…»