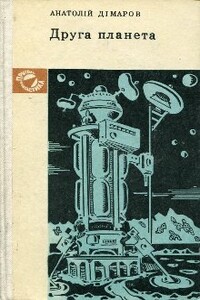И будут люди | страница 57
Василь Ганжа также не очень отличался от представителей своего рода: отец его не раз принимал участие в уличных кровавых схватках со Свиридом Ивасютой, сынок же как только научился сжимать кулаки, так и стал клевать ими Ивасютиного Оксена, наскакивал на куркуленка молоденьким, неоперившимся петушком.
В восемнадцать лет Василь Ганжа нанялся батрачить к Ивасютам. Но и тут не захотел уступать куркульскому сынку: работа работой, а ты мне на дороге не становись, а то быстро поверну голову так, что задом наперед ходить станешь!
Как-то поставил их Свирид в клуне к веялке (Оксен должен был насыпать в бункер зерно, а Василь — крутить ручку), а сам ушел по хозяйству. Немного погодя прислушался: что за наваждение? В клуне все словно вымерло. Подошел, приоткрыл высоченные двери, заглянул внутрь. Веялка стояла неподвижно, возле нее валялся большой совок, а на утоптанной земле, как молодые волчата, катались, дубасили друг друга Василь и Оксен. Еле удалось старику разнять забияк: обдергивая разодранные в драке сорочки, злобно хлюпая расквашенными носами, рвались они друг к другу, как злые петухи.
После драки Василь мысленно уже прощался с работой, но Свирид рассудил иначе: драться деритесь, а только делайте это так, чтобы все шло на пользу хозяйству.
На косовице он поставил их рядом: вперед пустил Василя, а за ним — Оксена. Снял шляпу, перекрестился, погасив в глазах хитрые огоньки.
— С богом, касатики!
До обеда Василь умаялся так, что хоть перевясло из него крути. Гнал прокос перед собой без передышки, да и где же тут передохнешь, если позади — вжик! вжик! — обжигает пятки острая Оксенова коса! Чуть только приостановишься или зазеваешься — секанет Оксен косой по лыткам, подсечет своего лютого врага, навсегда отучит ходить на улицу, верховодить на вечеринках.
После обеда лежали в тени под возом, словно запарившиеся бычки, — никак не могли остудить разгоряченные тела.
Отдохнув, снова заняли полосы. Теперь уже Оксен шел впереди, а Василева коса жгла ему пятки.
На другой год, в начале января, мачеха родила дочку. Отец достал с чердака почерневшую от времени люльку, повесил ее посреди хаты на железный крюк, надежно вбитый в матицу, смущенно ткнул пальцем — люлька качнулась, поплыла в воздухе разукрашенным челником.
Никто не знал, сколько ей лет, этой люльке. Ее привез сюда из старого дома еще дед, который сам когда-то качался в ней — пускал беззубым ртом пузыри, протягивая ручонки к маминой груди. Люди рождались, вырастали, старились, умирали, ложились в другие, печальные люльки, которые качала только смерть, а эта люлька неустанно колыхалась, одетая убаюкивающими, терпеливо-ласковыми женскими голосами.