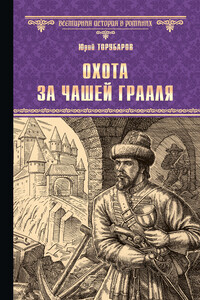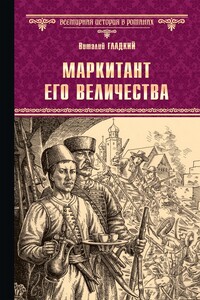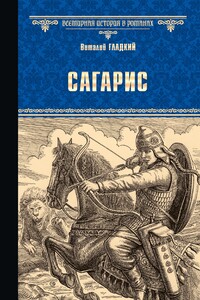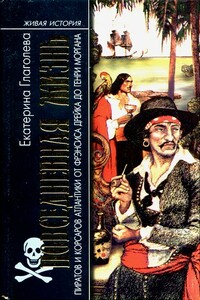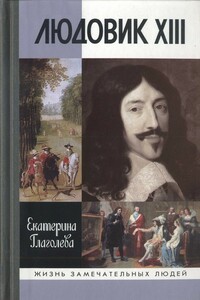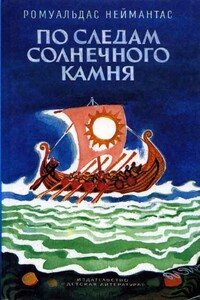Лишённые родины | страница 60
Михал уже не удивился, когда подсевший к нему в тенистом патио турок лет пятидесяти заговорил с ним по-французски, однако оторопел от услышанного. Покончив с обычными приветствиями и формулами вежливости, турок, не меняясь в лице, сообщил ему, что уже много недель за ним следит, но только третьего дня узнал от секретаря французского посольства, что месье Ридель на самом деле поляк. Это и побудило его познакомиться, чтобы дать уроженцу глубоко любимой им страны несколько ценных советов.
Собеседник Огинского родился французом, но в двадцать лет отрекся от своей веры и принял турецкое имя Ибрагим. Во время предпоследней войны с русскими он попал в плен, бежал с тремя собратьями по несчастью и оказался в Варшаве, где к ним отнеслись очень ласково и помогли совершенно бескорыстно. Поляки всегда благоговели перед французами, поэтому жизнь Ибрагима превратилась в восточную сказку. Он был представлен королю, его братьям, польским вельможам и познакомился с ними довольно близко, о чем Михал мог судить по верным и точным суждениям Ибрагима об этих людях. Дамы прозвали его красавцем-турком, его уговаривали остаться в Польше навсегда, однако он предпочел вернуться в свое приемное отечество, где разбогател, породнился с семьей великого визиря и стал весьма влиятельным человеком. Так вот, воспоминания о том времени побуждают его отплатить добром соплеменнику людей, которые были так добры к нему самому. Молодой грек Димитрий, которого Михал нанял в секретари, — русский шпион. Каждое утро, пока Огинский уходит на прогулку, и каждый вечер, когда он встречается с нужными людьми, Димитрий отправляется в русскую дипломатическую миссию с докладом о его делах: с кем переписывается, с кем видается. А на улицах Перы Огинского «пасут» еще несколько греков. И будьте уверены, что русский посол прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в резиденции Вернинака. На этих словах Ибрагим откланялся и ушел.
Больше никогда.
Эта фраза засела в голове Станислава Августа после разговора с Генриеттой, которая взяла на себя роль почтальона и привезла ему из Варшавы целую пачку писем. Он обрадовался ее приезду, она всегда действовала на него ободряюще. Хотя, конечно, восьмидесятилетняя старушка в чепце, с острым носом и морщинистой верхней губой, уже не была той очаровательной Генриеттой Люлье — Люльеркой, как презрительно прозвали ее варшавские ханжи, — в чьем доме на Краковском предместье он провел столько упоительных минут. Этот дом ей подарил Казимир, тоже оценивший ее прелести… Казимир приезжал недавно и пробыл всего пару дней. Он не сказал этого вслух, но было ясно, что он приезжал проститься. Брат сильно сдал, ходил, опираясь на трость, и страдал одышкой. Ему уже почти семьдесят пять. Станиславу Августу шестьдесят четыре. Ему словно подставили зеркало из грядущего — вот что его ждет, вот он — конец его пути, и нельзя ни свернуть, ни вернуться обратно…